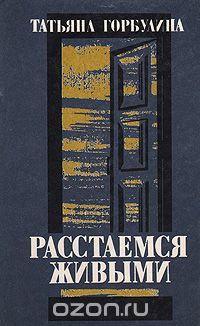Несостоявшееся
танго
В мае 2015
г. писательнице Татьяне Горбулиной исполнилось бы 65 лет
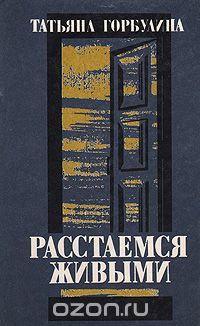
«Но только, только!..
Никто уж никогда не посмотрит на мир с ее места, не увидит ее
глазами, не ощутит ее истомленной душой...»
Татьяна Горбулина. «Расстаёмся
живыми».
Татьяна
и Саня
При первой нашей встрече в Курске в начале 90-х Татьяна Горбулина
говорила о моем рассказе «Случайная ночь»
– о «тоске, что сильнее любви». Именно этими
словами заканчивался рассказ, и они поразили Татьяну. «В
какой-то мере это универсальная формула жизни у нас, – заметила
она и повторила раздумчиво, – тоска в России сильнее, чем
любовь...».
Мы говорили на одном языке, и нам не нужно было объяснять друг другу,
какого рода эта тоска. Тоска по неосуществленному, по мечте, по
идеалу... Из этой тоски и вырастали «подтексты»
российского бытия-быта в произведениях писательницы, где «довлела
нефизическая ценность», где были «недействительны
обожествляемые миром эталоны».
«Аура российской непрактичной жизни, – писала Татьяна в
одной из статей, – отдушина среди планетарных Купли и Продажи,
не зря же столько лет всемирному искусству служил тезис «Загадочная
русская душа...»
«Загадочная русская душа...» – это о и Татьяне
(хотя корни у нее не только русские, но и латышско-немецкие). Она –
из семьи потомственных провизоров. Детство и юность ее прошли в
небольшом районного масштаба городке Боровичи Новгородской области.
Позже она переехала в Курск, где прожила без малого двадцать лет. Но,
как это ни покажется странным, не Курск, а именно Боровичи станут для
нее тем же, чем Йоканапатофа для ее любимого Фолкнера. Перефразируя
слова Шервуда Андерсона, сказанные им Фолкнеру, можно с полным
основанием адресовать их и Горбулиной: «...все, что вы знаете,
– это тот маленький кусочек земли, где вы начали. Впрочем,
этого тоже достаточно. Это тоже Россия...».
Боровичи предстают и в последнем прижизненном романе писательницы
«Танго для жены литератора» – в образах «заштатной
улицы Коммунарки» и ее обитателей. В предисловии сказано:
«Через бытие… Коммунарки и семьи Масашиных…
отображен завершившийся виток исторической спирали: от революции до
перестройки и реформ». Но уже по названию ясно, что роман о
судьбе женщины. И не просто женщины, а подруги, жены писателя.
Правда, писатель здесь только заявлен (Сергей Киселев, 27 лет,
прозаик). В действительности же писателем является сама жена, Саня
Масашина-Киселева. Именно она обладает острым взглядом, цепкой
памятью и даром рассказчика. Ее образ – скрепа цикла историй,
составляющих роман. По сути Саня является альтер эго Т. Горбулиной:
она – душа «Коммунарки», где родилась и выросла; ее
летописец.
Для стиля «романистки» Сани свойственны образное мышление
(здесь и «желтые кулачки кувшинок», и лилия, связанная «с
дном пуповиной», и уныло чернеющие домишки, «бесформенные,
словно кучи, нарытые кротом»…) и некоторая избыточность
подробностей, деталей. Но последние и создают очарование
достоверности времени, места действия и портретной живописи в духе
старых фламандцев:
«Щелястые, кривые и скрипучие сени с августа по сентябрь
оглушали пряным духом сушившихся на газетах, нарезанных дольками
яблок, а зимой промерзали, обрастая над внутренней дверью кудрявой
бородой...»; «У Арсеньихи руки были корявые, и одна из
них – попорченная: тыльная сторона покрыта расчесанными
перховатыми лишаями. У нее отсюда и привычка, наверное, вышла –
поджимать кисть на уровне живота, выставлять напоказ обтрепанные
обшлага пальтушки...».
Светящаяся, взволнованная душа рассказчицы, в которой так много от
восприимчивой души ребенка, ценит каждое мгновение жизни и стремится
с наибольшей полнотой запечатлеть окружающий мир, выразить в слове
его краски, запахи, звуки: «И было, кажется, слышно, как
скребутся в подвале мыши, как в кладовке плетет паутину паук, и позже
– как бьется муха, попавшая в эту – новую –
паутину...».
Вообще роскошь деталей в романе порой просто «мучительная».
Потому что вымучивает в тебе что-то такое, о чем ты и думать забыла,
и вдруг и ты видишь сокровенное – свою улицу Коммунарку, свой
дом, свой двор, свою старую яблоню с зелеными яблочками на
полузасохших ветвях и стол под ней, за которым когда-то сиживали
пожилой безногий человек, молодая женщина и маленькая девочка: отец –
дочь – внучка...
И
вот видение исчезает, в руках только выцветшее фото. И где он... и
куда он, ЭТОТ день исчез?
«…Жизнь уходит... И уже никогда не станцуешь на
сцене танго – в короткой юбочке, с челкой до глаз и с красной
розой, прикушенной за стебель молодыми зубами...»
Этот короткий абзац из внутреннего монолога героини, на мой взгляд, –
камертон не только к жизни Сани Масашиной-Киселевой, но и ко всем
обитателям «Коммунарки, к жизни самой документальной
писательницы.
Быт вместо бытия
Я пытаюсь понять, почему героиня «Танго…»,
несомненно тяготеющая к духовному, высокому, так много внимания
уделяет быту. И «уникально-странному, но привычному»
россиянину:
«Треснувшее стекло в наружной раме кухонного окна держалось на
мрачном фиолетовом пластилине…»; Крышка на колодезном
срубе развалилась по гнилой середине, а к ведру привязывали
излохматившуюся веревку...»; «Во дворе, у забора,
акробатски громоздились друг на друга кроличьи клетки, чуть прикрытые
обрывком побелевшего толя... За клетками валялись побитые цветочные
горшки...».
И такому, какой можно назвать отходами человеческой деятельности:
«Выгребная яма давно переполнилась и понемногу сочилась из-под
серых досок зловонною жижей, пораставшей зеленоватой панбархатной
плесенью, в которой ползали пресыщенные навозные мухи…»
В таких условиях проводят «остатние годы» жители улицы со
знаковым именем – «Коммунарная» (или ласково –
«Коммунарка»)? Да-да, те самые, что строили Днепрогэсы,
«самое лучшее в мире метро», поднимали целину, трудились
в колхозах… Все для государства и ничего для себя лично. То
есть лично для себя только самое что ни на есть необходимое,
«функциональное». Таков неумолимый закон всякого
творчества, а особенно такого, когда творится целая страна. Тогда с
неизбежностью Марфа изменяет своему исконно женскому предназначению –
украшать дом – становится Марией, неуклонно следующей за
творцом всех времен и народов и исполняющей все, что он ни скажет.
Потому что верит творцу безоговорочно.
Только всему есть предел: заходит однажды Марфа-Мария в свою
кухню-функцию и как-то очень отчетливо видит то, чего раньше занятая
по двенадцать часов на днепрогэсах или на прополке колхозной свеклы
от усталости не замечала: «кастрюли с оббитой «полудой»,
потерявший половину подвесок плафон, исцарапанные, самодельные
табуретки, стертый до ручек веник возле плиты, серую тряпку,
обгоревешее полотенце и цепочку мурашей, восходящую на буфет…».
«Вот те на!» – говорит она. И плачет. Потому что
ничего уже поправить не может: нет ни средств, ни энергии – все
отдано ему, творцу днепрогэсов. «И зачем же к старости так
прозревать!» – с грустной иронией откомментирует этот
«кухонный» эпизод рассказчица.
Так вот для чего, – доходило, наконец, до меня, – столь
убедительно-живописно рисуется весь этот щелястый быт. Для того,
чтобы через распад быта показать распад старой (советской) системы,
отчужденной от забот и проблем маленького человека, – и
необходимость, закономерность ее обновления.
Обновление проводится «сверху» директивным решением –
снести старую Коммунарку, на ее месте построить красивые дома, а
жителей отселить на окраину. Для чего уже отрезаны огороды, вырублены
яблони («семьсот штук извели»), порушена связь с
канализацией. Несмотря на эти крутые меры, коммунарцы переезжать не
хотят, цепляются за свое старье. «Что же нам государство
дожить-то толком не даст?! – чуть не с плачем говорят они. –
Как жить без земли?!».
Земля для жителей Коммунарки – главная кормилица. У государства
они не просят вспомоществования даже когда болеют («к
докторам-то отроду не хаживали и моды такой не держим. Над картошкой
подышишь да чаю попьешь с малиной, да кирпич накалишь – сунешь
под поясницу и, Бог даст, полегчает…»). И потому понять
не могут: за что отбирают землю, когда «пустырей-то скоко,
строй – не хочу!». И вот на голову «дареный
кашемировый плат», документы – в газету – и чуть ли
не ползком («спина болит, ноги не ходят, пальтушка не греет»)
к властям-заступничкам. Мол, «мы ли не заслужили?! То были и в
пир и в мир – всё: «Давай, девки, давай поднажмем! –
а то выметайтесь!». «Не надо нам дворцов культурных, а
дали б век свой в старых хатах дожить…»
Но противятся обновлению только старики (да кто их слушает!). Дети и
внуки (в их числе Саня и Сергей Киселевы) ждут с нетерпением: «И
будут подъем, эйфория и смелость... И будет изумление – это
надо, как притерпелись!.. И придет неодолимое романтическое желание
быть с Историей заодно: обличать, свергать, аплодировать...».
Киселевы присутствуют при рождении новых ценностей, признавших и
Бога, (в которого кстати не верили ни Саня, ни ее муж, впитавшие с
молоком советской матери, что Бога нет), и деньги, прежде считавшиеся
низменной материей ("говорить о них – все равно, что
прилюдно догола раздеваться..."). Но скоро им становится ясно,
что по сути ничего не изменилось, просто место стародавнего Бога,
занял молодой божок – «золотой телец»
С удивлением узнавали Киселевы, что те, кому они аплодировали за
обещание лучшей жизни, маленькую Францию и маленькую Америку
построили только для себя. А сами Киселевы и иже с ними как были, так
и остались при своих интересах с тем же советским угнетающим бытом в
хрущевках – шесть метров на человека, с теми же кухонными
«диссидентскими» разговорами под рюмку водки и под стуки
и ругань соседей. И вырывается горькое: «Для чего такие кухни
маленькие, для чего такие стенки тонкие, для чего с утра до вечера
эта килька... На, говорят, полтинник, живи, как человек…»
Саня Масашина-Киселева приходит к выводу, что для таких, как она,
«нелагожих» (это местное новгородское словечко означает
невезучесть. «Вся порода наша какая-то нелагожая...»
– говорит мать героини романа),
в сущности не имеет разницы, в какое время и при какой системе
жить, «из какой кухни на улицу смотреть». «Все
одно и то же».
В поведении героини появляются вялость, раздражительность, апатия –
симптомы депрессивного состояния, что кажется странным для еще
молодой женщины. Но, «вчитавшись» в жизнь Сани,
перестаешь этому удивляться и понимаешь, что не только быт и
«безвитаминная» бедность тому виной. Хотя и бедность,
конечно, тоже.
Голгофа
Тема провинциального писателя в романе – одна из центральных. И
какой безнадежностью, каким отчаянием веет с тех страниц, что
запечатлели этот страшный путь творца и не менее страшный путь его
жены. Она, земная Мария, сначала верит в дар творца, в то, что он
призван, и не только не требует содержать семью, но отдает
последнее, заработанное собственным трудом на производстве – на
бумагу, перепечатку, рассылку рукописей…
Рукописи не печатают, а возвращают и возвращают, упрекая творца в
бытописательстве, мелкотемье и в отсутствии героя. А творец
упорствует, стоит на своем: мол, не встречались ему в жизни герои,
«о
каких он с детства в книжках читал». «Наоборот, он видел
столько скверного и глухого, что уже смиренье с судьбою и тихая
честность казались ему вершиной человеческих проявлений». «Я
об этом должен написать – …о нашей суетливой жизни…
о наших жалких надеждах и о поруганных мечтах..." И пишет,
пишет… А потом в отчаянии рвет только что возвращенную в
очередной раз рукопись и делается «злокачественно унылым»,
и начинает «беситься из-за отъявленных пустяков», и
пролеживает целые дни на диване.
И Саня начинает думать, что корпение над листом бумаги для мужа вовсе
не призванность, а то, что сродни обыкновенной человеческой
страсти (не случайно, она называет эту страсть «беспробудной»
– по аналогии с «беспробудным пьянством»). Но она
не намерена служить страсти. Пусть тогда и он помучается
вместе с нею над жизнью: поездит на дачу, потаскает картошку за шесть
километров по колдобинам, выпишет списанный железный вагончик, чтобы
на следующее лето… И тут мужа-писателя прорвет: следующее
лето?! И В следующее лето «будет такая же бесплодная кутерьма?!
Дадут ему наконец поработать?! Господи, Боже мой! И он будет мычать и
метаться между кухней и комнатой, схватившись за голову: лето, лето,
лето!».
Это истязание творца длится месяцы, годы. И почему-то никому, даже
умнице Сане, не приходит в голову, что духовная работа требует полной
самоотдачи и создания для этого благоприятных условий. Постоянное
прерывание творческого процесса чревато психическими стрессами,
которые могут довести и до умопомешательства.
Возможно, Саня не думает об этом и не создает условий потому, что сил
у нее самой хватает только на работу и ребенка, которого они родили с
Сергеем. Чтоб умненьким рос, здоровеньким. А на кухне от дыма не
продохнуть, от разговоров этих литературных, так что ощущаешь почти
физически, как «алчно хлюпает словесная топь». Да еще
сосед-инвалид хочет пообщаться с «писателем»,
«поговорить
за жизнь», заодно кляузу свою подредактировать. Потому как
писатель, по представлению того соседа, только для того и
существует.
Он же не сеет и не пашет.
Но ведь и не птичка божия! – раздражается про себя Саня. –
И писатели есть хотят. И думает тайком: «Ну неужели нельзя
побыстрее, ну что же так долго копается – любую строчку по
десять раз переписывает». И, выждав удобный момент, напоминает
мужу: «Попроси аванс». Ну в том издательстве, куда он
четыре года назад отнес рукопись, а там все читают и читают и ответа
никак не могут дать. В ответ слышит привычное: «дело ведь не в
деньгах!».
Да в деньгах, в деньгах… – чуть не плачет Саня. Она
прекрасно поняла, что стояло за словами мужа: писатель «обязан
на чужие горести отзываться, а своих не замечать». Но ведь
сапоги износились, одежда истрепалась и ей, Сане, как назло, зарплату
урезали. И вот она смотрит с отчаянием на творца, мол, не могу я
больше, не могу… Творец же словно не видит и не слышит ее,
словно «из тех фарисеев, что делают вид, будто лунным воздухом
сыты».
И еще подсунет ей статейку – насчет того, что писатель,
особенно из молодых-начинающих вообще «не имеет права о хлебе с
маслом мечтать» и добавит: «Ты все-таки не надейся, что
теперь-то уж напечатают непременно, я, может, в стол пишу, может, это
никому уже не интересно… Никого мол, в этой рукописи не
убивают и не насилуют… и о наркоманах с гомосексуалистами у
него никакого желания нет писать, к тому же знает о них понаслышке…
Так что ему бестселлер сроду не написать…».
«Тогда Саня стиснет зубы и изо всех сил будет держаться, чтобы
не закричать, не умчаться куда глаза глядят». «А как было
бы хорошо, – думала она, – бежать и вопить, вопить во все
горло…». И тогда впервые приходит ей в голову мысль, что
«ВЫХОДА НЕТ» и хорошо бы «как-нибудь умереть, чтобы
ему как следует отомстить – чтоб спохватился…».
Спохватился, что не заботился о Сане, не таскал на речку корзину с
бельем, не пропускал в дверях вперед и не держал за руку у зубного
врача, как муж подружки, как другие мужья.
Саня знает, что говорить так даже самой себе нехорошо, не следует и
не хочет так говорить, но слова сами срываются с языка, «потому
что записаны в памяти». И хоть смерти она не страшилась
(«почти
не страшилась») «и рассуждала о ней легко», само
мгновенно промелькнувшее знание, что «вот умрет она, и ее
никогда-никогда-никогда-никогда-никогда…», а более всего
то, что вместо привычно белеющего в полутьме потолка перед ней вдруг
разверзся «садистический космос» – «черная и
гремучая пустота» – заставили ее «отскочить вовремя
от черты», вернуться на грешную землю.
Она живет надеждой, что в конце концов Сергей напишет что-то стоящее
и это стоящее издадут и она погордится мужем (не небокоптитель, а
неботворитель!) и немножко собой – не зря, значит, были ее
муки.
Однажды случится удача: рассказ Киселева напечатает молодежная
газета. Саня купит много газет и подарит знакомым и сослуживцам. И
вдруг как оплеуха неожиданная реакция:
«И она увидела, как меняется к ней отношение прежде милых и
добрых людей; как смеются над нею (а пуще над Киселевым) и пытаются
по любому поводу уколоть, и на все ее слова обязательно возражают и
поворачиваются спиной, а она остается совершенно одна, и это ей,
пожалуй что, не по силам…»
Обыкновенная женщина в этой ситуации либо ушла бы от мужа и нашла
себе другого – по интересам; либо как истинная Муза полностью
посвятила бы себя творцу. Но Саня – не обыкновенная и не
Муза. Она – тоже творец, хотя и не думает об этом и даже с
иронией вспоминает о своих первых литературных опытах. И тем не
менее, зернышко дара в ней осталось и проросло. И скорее всего, Саня
по-писательски внушила себе, что должна нести свой крест (жены
литератора) до конца. А кроме того, она все-таки обыкновенная, слабая
женщина и боялась остаться одна. Вот так между не-любовью (или
остывшей, уставшей любовью), страхом одиночества – и
подспудной, неосознавемой ею самой тягой к творчеству Саня и жила
многие годы.
Красная
роза – эмблема печали
В муках, разочарованиях, угнетающей бедности, бесконечных выяснениях
отношений с женой, то есть на пределе нервного срыва рождался роман
Сергея Киселева со странным названием «Комната без
дверей».
О содержании этого романа можно только догадываться по заметам…
нет, уже не Сани, а самой документальной писательницы, образ которой
нет-нет да и проглянет из-за плеча то одного, то другого персонажа.
«Душно и темно», «гной течет рекой», –
скажет она об общем впечатлении от романа. Да Сергей и сам это
поймет: рукопись порвет, после чего исчезнет из жизни Сани. А она
будет рыться в клочках бумаги, выхватывать отдельные фразы: «глухое
отчаяние», «всем покоя…», «угрюмые,
молчаливые люди…», хвататься за разные дела и в конце
концов забудется за письмом коммунарской жительницы Ольгицы. Письмо
большое на нескольких страницах («за нашу нищую жизнь хоть вы
теперь поживите…», «такие нынче нравы, что радость
охватывает от того, жизнь в другое время прошла…»), так
что за чтением его вместе с Саней мы также забываем о
«пропаже»
саниного мужа. Он забыт уже до конца романа. Вытеснен. Замещен самой
Саней. Хотя чисто головно она знает, что мужчина больше приспособлен
к роли творца и что естественнее, когда творец на фоне музы, а не
наоборот. Но так легли карты жизни: женщина, став добытчицей и
кормилицей семьи, перестает быть только музой, невольно примиряет на
себя и несвойственную ее полу чисто мужскую роль творца.
Кстати, отнюдь не случайно, что на протяжении романа Саня не однажды
теряет мужа: впервые еще на Коммунарной, когда приходит домой, а мужа
нет – исчез куда-то вместе со своими рукописями. Показалось
странным то, что Саня не проявляет особой активности по его розыску,
напротив, именно в дни отсутствия Сергея много размышляет о судьбах
других людей – в основном жителей Коммунарки. При этом уверяет
себя, что любит Сергея.
Но психологи говорят, когда человек что-то или кого-то теряет (пусть
и на страницах романа) – это значит, что человек от чего-то и
или от кого-то хочет избавиться. «Потерять», вытеснить
за… – заставляет подкорка. С какой целью? В
случае Сани, чтобы осуществить сверхзадачу живущего в ней творца –
донести до будущих поколений исчезающие во времени и пространстве
жизни обитателей Коммунарки: «они вцепились в самый краешек
памяти – вот-вот оторвутся и потеряются, пропадут...».
Она знает, что никто кроме нее не расскажет об уходящем поколении.
Она обязана это сделать уже потому, что яблонька «для
Крошечки-Хаврошечки из материнских косточек проросла».
Саня
хочет понять, о чем думает, к примеру, обыкновенный житель улицы
Коммунарки дед Иван, «строгая свои деревяшки, окучивая
картошку, прививая яблони, хлебая щи со снетками, метя квадратный
дворик и таская взад-вперед парниковые рамы; надевая зимой облезлую
кроличью шапку, а летом – белую от времени суконную кепку,
смазывая дегтем русские сапоги, прогоняя по канаве талую воду или
крася ежегодно свой зеленый забор....»
Может, потому дед Иван с таким упорством цепляется за привычную
жизнь, размышляет Саня, что каким-то внутренним знанием знает: такие,
как он, по сути своей не годятся в победители. У победителей –
удачливых и красивых хозяев новой жизни – другая философия: они
привыкли брать жизнь за горло, а деды Иваны – превозмогать.
«Среди жителей Коммунарки не водилось философов, –
говорит Саня, – «не велось мудреных речей, но во всей их
незавидной жизни была уже, наверное, философия: терпеть свою
жизнь. Но как это им удавалось, что они говорили себе, какие
приводили доводы и примеры, на что надеялись – Бог
весть...»
Им, жителям Коммунарки, Саня (Александра Максимовна, как она себя
иногда иронически называет) хочет поставить памятник,
«Вот поедет Александра Максимовна в отпуск... попросит ради
Христа... и выбьют на цоколе давным-давно заселенной пятиэтажки
золотые слова: «Здесь были: Бабулина стойкость, Арсеньихино
смирение, Ксенина – до гроба любовь, Патина отзывчивость,
дед–Иванова скромность, Машина верность, Фешино прощение и
Нюшина мудрость...»
И это Сане – Татьяне Горбулиной удалось. Романом «Танго
для жены литератора» увековечена память о жителях Коммунарки,
уходящем поколении бывшей страны Советов, построенной их руками.
К сожалению, роман мало кто прочитал. А новое поколение рождения
90-х, боюсь, и вовсе не узнало про жителей Коммунарки.
Нераспакованные пачки романа в кабинете Татьяны Горбулиной, казалось,
с немым укором смотрели на нее. Разумеется, в том не было вины
автора. Просто исчезла страна, в которой жила писательница. А вместе
с ней и единая всесоюзная система книгораспространения, и «самый
массовый читатель». Сама Татьяна раскручивать себя и свое
творчество не умела и не считала для себя возможным (Белая косточка!
Не случайно моя мама, простая сельская жительница, при первом
знакомстве с Татьяной вдруг поцеловала у нее руку, чего прежде
никогда не делала. После мама мне объяснила, что вышло это у нее само
собой и что такого благородства, как у писательницы Горбулиной, она
прежде ни у кого не встречала).
Конечно, при желании общества Танго бы состоялось. Но общество
не пожелало: у него не было больше времени на сосредоточенное чтение
да и сама тема «бедных и униженных» не грела. И никому не
внятен был голос писательницы: «Ведь это же я, я написала,
думала, вот вам, люди, мой подарок...».
Когда-то Татьяна в разговоре высказала предположение, что люди пьют
из-за невозможности совершить творческий акт, из-за
непроявленности.
А из-за чего уходят до времени из жизни? – однажды спросила я
себя. Ответ нашла в «Танго…»: «...И спросит
Он, ну что тебе? – рассуждая услышать: «Дай мне сил
одолеть этот тяжкий путь...» И услышит: любви!»
Страшно
знать, что ты не нужен. Что тебя не хотят ни близкие ни
дальние. Что обречен на непрочитанность. Тут единственное
спасение для земного творца – вера в Божий промысел и свое
предназначение. Если этого нет (а единственно нормальная жизнь,
приходит к выводу в конце романа Саня, это жизнь с верой), то
вряд ли утешат слова предшественников: «Есть писатели, чья
непризнанность заключается в том, что их не читают, и к ним относятся
ныне все крупные немецкие авторы. А жребий других – издаваться
десятками и сотнями тиражей и оставаться при этом непризнанными…
ибо подлинного знания, действительного признания писателя... не
бывает, оно всегда лишь вымысел историков литературы...»
(Герман Гессе).
В том последнем своем прижизненном романе, в предисловии к нему
Татьяна, спрятавшись за маску безымянного редактора, написала о себе
в третьем лице: «…иллюзии утратила сама Татьяна
Горбулина…». Но надежда все-таки оставалась. Надежда на
читателя: «Ну что ж, посмотрим, что скажет читатель».
Читатель промолчал. Он был слишком занят собой. «И вот
тогда-то, обернувшись из своего коварного времени в бесконечную
пыльную анфиладу», Саня воскликнет: «ЗАЧЕМ?! ЗА ЧТО?!
ПОЧЕМУ?!»
На рассвете четвертого мая 2003 года писательница Татьяна Горбулина
открыла окно своей маленькой кухоньки на четвертом этаже – и
вышла. Совсем. Навсегда.
На ее похоронах читали стихи Блока:
Май жестокий с белыми ночами!
Вечный стук в ворота: выходи!
Голубая дымка за плечами,
Неизвестность, гибель впереди!
Женщины с безумными очами,
С вечно смятой розой на груди!..