Журнальный зал "Русского переплета"
| 2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | |||||
| 2004 | |||||
| 2002 | |||||
| 2007 | |||||
| 2003 | |||||
| 2008 | |||||
| 2006 | |||||
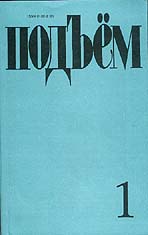 Закрывается то один провинциальный
журнал, то другой - исчезают с карты России островки
духовности и образования, наконец, исторической памяти
народа. "Подъем" является именно одним из таких островков,
к счастью, уцелевших, который собирает мыслящих людей,
людей неравнодушных, болеющих за русский язык и вековые
традиции нашей страны.
Закрывается то один провинциальный
журнал, то другой - исчезают с карты России островки
духовности и образования, наконец, исторической памяти
народа. "Подъем" является именно одним из таких островков,
к счастью, уцелевших, который собирает мыслящих людей,
людей неравнодушных, болеющих за русский язык и вековые
традиции нашей страны.
Иван ЕВСЕЕНКО
БОЛЬШАЯ БАНЯ
Повесть из цикла "Большая беда"
О к о н ч а н и е. Начало в N 8, 2005 г.
Бежать от железнодорожной бани до еврейской было всего ничего, метров триста-четыреста, ну самое большое - пятьсот, полкилометра, по Красной городской площади мимо хозяйственного, всегда заманчивого для Василия Ивановича магазина, где можно купить гвоздей, шурупов и всякого прочего инвентаря; мимо главного городского сквера с памятником вождям революции, где Василий Иванович всегда любил посидеть в тени высоких осокорей, вдоволь набродившись по магазинам и базарам; мимо дома Соломона Яковлевича с крылечком, похожим на паперть, напрочь заросшим диким плющом и хмелем, где Василий Иванович тоже не раз сиживал после банных испытаний с гостеприимным хозяином; в главное, мимо парикмахерской-цирюльни. Соблазнительно, конечно, было забежать в нее, узнать, что там и как сейчас, почем стрижка-бритье, занять очередь. Но и опасно было: в парикмахерской очередь займешь, а в бане пропустишь. Нет, уж лучше вначале определиться в бане, а потом назад в цирюльню, где очередь идет все же побыстрее, чем в бане: Соломона Яковлевича, "своего", единственно верного мастера дожидаться теперь не надо, садись к любому, в любое кресло.
Василий Иванович так и сделал. На парикмахерскую-цирюльню даже не посмотрел, а скорее задами, удачно срезав, спрямив угол через скверик, вокруг которого по новейшей моде не было никакой, самой ничтожной и низенькой ограды, выскочил в переулок Свободы, а потом и на саму улицу Свободы, где в окружении мелколистных осин всегда и стояла еврейская баня. Позволил себе Василий Иванович по дороге во время скоростного бега взглянуть лишь на крылечко-паперть (да и то вполглаза) Соломона Яковлевича, не сидит ли он там, не дожидается ли нечаянного гостя, товарища своего и вечного клиента Василия Ивановича, Василька? Но того что-то не было, видно, обретается еще по утру в доме или во дворе, если только жив, конечно.
Василий Иванович наметил себе, что к Соломину Яковлевичу он заглянет после парикмахерской и бани, может, даже с бутылочкой хорошего вина, чтоб посидеть в чистоте и порядке, никуда не торопясь и не поспешая. А пока недосуг, пока надо занимать очередь, поприглядней заметить впереди стоящего человека, чтоб потом, когда сбегает в парикмахерскую, не ошибиться, не вступить в нечаянный какой-нибудь спор и огорчение.
Улица Свободы была широкой, прямоезжей, и, чтоб перейти ее в положенном месте, надо десять раз оглядеться по сторонам, нет ли какого транспорта, моторного или гужевого, действительно ли она свободна для пешего да к тому же еще и такого робкого и непривычного к городской суетной жизни человека, как Василий Иванович. Он и огляделся со всей бдительностью и осторожностью возле перехода с разноцветными фонарями: красным, желтым и зеленым, по-совиному глазастыми, попеременно мигающими, дающими верный и определенный знак, когда можно перебегать на другую сторону, когда свобода и безопасность, а когда лучше повременить, постоять на тротуаре, будто в заточении.
Василий Иванович мгновение для перехода уловил точно: едва мигнул в последний раз желтый фонарь и зажегся зеленый, он широким, почти бегущим шагом пересек улицу, потом свернул чуть вправо за здание почты, уже явственно слыша да и видя поверх почтовой крыши, как вызванивают на ветру и переливаются на солнце всеми цветами радуги стойкие, не опавшие еще под первым морозом осиновые узорчатые листочки.
И вдруг Василий Иванович помертвело замер. Все до единой осины стояли на месте, а никакой бани под ними не было. Вместо нее провально зияла бездонная пропасть: не то котлован для будущего какого-то строительства, не то остатки старого фундамента, запорошенного снегом. Василий Иванович не поверил поначалу этому видению и думал, что, может быть, в поспешности своей вышел не туда, не к еврейской бане, а в какое-нибудь совсем незнакомое место. Но нет же, все здесь ему было знакомо и привычно: слева, за невысоким зданьицем почты - базар, справа - синагога, а посередине должна была стоять еврейская баня. Но она куда-то бесследно исчезла, словно провалилась сквозь землю.
Как в это можно было поверить?! Да скорее мог исчезнуть с лица земли, мог быть разрушен весь чудо-городок с его крепостью стеною, куполами, островерхими шпилями и минаретами, чем исчезнуть еврейская, обоснованная, может быть, даже раньше самого городка баня.
По тротуару мимо остолбеневшего и совсем потерянного Василия Ивановича проходили, а то и пробегали утренние городские жители, поспешая по всяким конторам, которые прозываются теперь офисами, и другим начальственным местам, администрациям, банкам, дорогим магазинам с мудреными, почти сплошь нерусскими названиями. Вид у всех горожан был тоже начальственный, недоступный, и Василий Иванович не решился никого остановить, и не столько потому, что так уж боялся начальственной этой городской строгости, сколько опасался насмешки и небрежения. Глядя на его деревенскую телогрейку, стеганку, подпоясанную морским ремнем, на не заглаженные в стрелку и прямую линейку брюки, на дерматиновую не первого срока носки сумку (а на лисью дорогу шапку, поди, не взглянут), скажут: "Ты что, деревня (именно так и скажут - "деревня"), ополоумел, не было тут никакой бани, тем более, еврейской! Уйди с дороги!" А то, может, и чего похлеще произнесут, с матерком и злобой, нынче такие времена, что злоба и матерок отовсюду слышатся, и особенно, если поперек дороги кому встанет такой вот неприглядный с виду, мешающий всем человек, как Василий Иванович.
Нет, тут уж надо до всего своим умом доходить, своей догадкой, а коль спрашивать, то у людей самых верных, все обо всем знающих, которые объяснят ему подробно и достоверно, что тут в чудо-городке происходят за беды, злоключения и злосчастия. А то, что они происходят, Василий Иванович уже не сомневался: не могла же просто так, за здорово живешь железнодорожная крепостная баня преобразиться в подозрительный какой-то "Аквацентр", где стоит на часах неусыпный стражник, а за краткосрочную помывку берут две сотенные; не могла и без всякой причины и злого умысла исчезнуть, провалиться сквозь землю еврейская, всегда гостеприимная баня.
Самые знающие и осведомленные люди, по разумению Василия Ивановича, были, конечно, в парикмахерской, в цирюльне. Вотчина эта с начала веку еврейская, тут всегда работали коренные, потомственные евреи, и уж им ли не знать, куда подевалась еврейская родовая их баня.
Постояв еще минуту-другую одеревеневшим каким-то истуканом возле бездонной пропасти, заглянув даже в нее с самого обрыва, словно хотел удостовериться, а не виднеется ли там хотя бы оцинкованная крыша ушедшей в подземелье бани, Василий Иванович повернул назад к переходу.
На этот раз перебежал он улицу Свободы не так удачно: замешкался на тротуаре, пропустил мигание фонарей, и красный волчий глаз застал его на самой середине проезжей части. Тут же на голову Василия Ивановича посыпались крики, отборный, хорошо налаженный матерок, автомобильные гудки; с гужевой, похоже, цыганской какой-то подводы на резиновом ходу кучер замахнулся на него кнутиком и крикнул, как того и следовало ожидать:
- Ты что, деревня, не видишь?!
- Вижу! - оборонился и все же не дал себя в обиду Василий Иванович. И мало того, что не дал, так еще и ответно упрекнул нерадивого возницу: - Чересседельник подтяни, коня загубишь!
Пока они так препирались, каждый отстаивая свою правду, зажегся зеленый свет. Василий Иванович прошмыгнул на него, а цыган, натянув вожжи и с трудом удерживая норовистого абы как запряженного коня, вынужден был прижаться к обочине и уступить дорогу.
Парикмахерской, цирюльни Василий Иванович поначалу тоже не признал. Сложенная из того же самого, иссиня-красного обжигного кирпича, что и крепостная стена и баня, она в прежние год сущим мавзолеем стояла на исходе городского сквера, глядя фасадом, дверью и двумя неширокими окнами-бойницами на Красную площадь. Теперь же, как показалось (или почудилось) Василию Ивановичу, цирюльня была чуть развернута по периметру и стояла к Красной площади бочком. Дверь в ней была совсем иная (не железная, правда, смахивающая на ворота, как в железнодорожной бане, но и не деревянная, филенчатая), сплошь из стекла, вставленного в алюминиевый ободок. Она насквозь, бесстыже просвечивалась, и за десять метров, с самого центра Красной площади можно было видеть, что там творится, как стригут, бреют, прямо-таки мордуют перед тысячами зеркал ни в чем не повинного человека. Окна в парикмахерской были теперь расширены, превращены в витрины, и в них тоже бесстыже красовались на метрового размера фотографиях полуголые девицы и мужчины с непроходимо-густыми, похожими на проволоку волосами, каких Василий Иванович никогда в жизни и не видел. Не было и прежнего крылечка с двумя удобными, раскидистыми лавочками, на которых в ожидании очереди к "своему" мастеру всегда удобно было посидеть, покурить цигарку из только что купленного на базаре, отборного табака, побеседовать о жизни со знающими в ней толк мужиками, о видах на урожай, на предстоящую зиму или лето, на перемены к лучшему. Вместо этого крылечка было совсем иное, идущее полукругом от одной витрины к другой, с винтовыми ступеньками-лестницей, выложенными скользкими кафельными плитками. Никаких лавочек на этом крылечке-постаменте не просматривалось: похоже, нынче ни у кого из жаждущих постричься-побриться у "своего", испытанного за долгие годы мастера не было, иди к любому без разбора и норова. А коли так, то и сидеть на лавочке, курить добротный табак или махорку и, тем более, вести разговоры о жизни и переменах к лучшему было незачем, да, может, и непозволительно. Само собой, что и название над перестроенным заведением было новое, перестроенное, не "Парикмахерская", а "Салон красоты "Элен".
Василий Иванович даже засомневался, заходить ему в эту стеклянно-витринную цирюльню или не заходить. Вдруг и там где-нибудь за дверью стоит, скрывается неусыпный охранник с дубинкою и наручниками за поясом, и еще неизвестно, чем и как закончатся с ним разговоры. Но и иного выхода у Василия Ивановича не предвиделось. Уж если не сладилось у него пока с помывкой, с баней, то надо хоть постричься, побриться, привести себя в божеский облик, а там видно будет. Может, пойдет он прямым путем к Ксюше да и помоется у нее в ванной, сполоснет с себя накопившуюся за лето усталость, пот, ржаные остюки и пыль, а заодно и едкий, режущий глаза и ноздри импортный одеколон ("Красной Москвы" теперь, поди, и не производят), если только у Ксюши будет вода, а то она часто жалуется, что с водоподачей у них перебои. Известное дело, не из сруба-колодца, который в трех шагах от дома или даже во дворе выкопан, ее черпают, а из водопровода. Затем это казенная, государственная и от человека, хозяина дома, ни на вот столько не зависит.
Конечно, ванна, даже самая горячая и глубинная, не баня, баловство одно, ребячество, ни парилки в ней, ни веников, ни соседей-доброхотов на полках. И главное, нет праздника. А Василий Иванович в баню за десять километров-верст как раз и шел, снаряжался ради праздника.
Но, может, все еще и поправится. Омолодится он в цирюльне, в салоне красоты по названию "Элен" (глядишь, и вправду закрасивеет), потом сбегает к Ксюше, перехватит у нее сто рублей и назад в "Аквацентр", под высокие его своды и охрану Ивана-царевича. Василий Иванович немного повеселел от этих утешительных мыслей и довольно смело поднялся по крутым и скользким лестничным ступенькам, цепко придерживаясь рукой за металлические крученные в три прута перила. У порога он тщательно вытер, остучал ботинки о пластмассовый пупырчатый коврик (старая деревенская привычка: перед заходом в дом непременно вытереть, обстучать, а если зимой, то обмести веником сапоги, ботинки или валенки". Стеклянная насквозь прозрачная дверь, похожая на зеркало, поддалась ему с трудом, туго удерживая наверху хитроумным каким-то гидравлическим приспособлением. Пришлось Василию Ивановичу приналечь на нее плечом: надо же, стекло и алюминий, а какая тяжесть, какая твердость.
Одолев дверь, которая тут же сама по себе и закрылась за ним, захлопнулась, словно предупреждая, что назад хода нет, Василий Иванович первым дело поздоровался, хотя поблизости вроде бы никого и не было, ни парикмахеров-мастеров, ни посетителей-клиентов, ни охранников - один только многооконный блеск зеркал на стенах, потолке, а возле кадки с какими-то колючими, неузнаваемыми цветами так даже и на полу, да непомерно яркий, слепящий глаза свет разновеликих фонарей. Лишь в самом крайнем, у стены, кресле (когда-то там всегда работал Соломон Яковлевич) заметил Василий Иванович клиента, дородного, рано отяжелевшего мужчину, вокруг которого суетилась парикмахерша, такая же дородная девица в ярко-красном фартуке-переднике (а во времена Соломона Яковлевича все мастера ходили в белых накрахмаленных халатах, почти больничных - оттого и строгость такая была и внимание к клиенту, словно к заболевшему человеку). Фартучек-передник девице был явно тесноват (или так задумано, чтоб тесноват), на весь запах его не хватало да и держался он на одном только честном слове: тоненькой ниточке-хомутике на шее и такой же ниточкой-паутинкой повязан на поясе. Когда девица, хлопоча над клиентом, поворачивалась к Василию Ивановичу спиной, то обнаруживалось, что под этим фартучком ничего, кроме двух ниточек-паутинок, и нету ни вверху, ни внизу, и она бесстыже смущает всех посетителей полуголым своим видом. Но, судя по всему, это тоже было так задумано, чтоб смущать, приманивать клиентов, и в первую очередь таких, как этот дородный мужчина в кресле, который пришел не столько затем, чтоб постричься, сколько за тем, чтоб поглядеть на незапахнутый передничек, держащийся на ниточках-паутинках, готовых в любой момент оторваться.
Василий Иванович немного даже растерялся, не зная, к кому тут обращаться насчет стрижки-бритья. Все по той же деревенской неизживаемой привычке он снял с головы шапку и, ухватисто придерживая сумку в руках, заоглядывался по сторонам. Девица у дальнего кресла никакого внимания на него не обратила, все так же услужливо ворковала возле богатого, должно быть, клиента, поблескивала голой спиной и голыми, доступно, с готовностью выпирающими из-под фартучка грудями.
Василий Иванович хотел было попятиться назад к двери, подальше от всей этой взаимно продажной и покупной красоты, от соблазна и посягательства, но вдруг из боковушки, которую он поначалу и не заметил, вышел, вынырнул, словно из какого-то зазеркалья, молодой парень в белой рубашке с галстуком-бабочкой на шее. Был он по-грачиному черный, горбоносый, но совсем не еврейского вида, не то грузин, не то армянин, а может, даже и какой чеченец.
Увидев Василия Ивановича, переминающегося у порога, парень цепким, кошачьим взглядом окинул, охватил всю его фигуру с ног до головы и вдруг сказал строгим, требовательным голосом, но чисто по-русски, без всякого акцента и заминки:
- Ноги вытри!
Василий Иванович сопротивляться ему не стал: замечание, требование грузина-чеченца, похоже, хозяина всего заведения, было в общем-то справедливым. Подорожного песка и грунта Василий Иванович за один раз с ботинок без веника и какой-никакой сапожной щетки не смел и теперь мог, идя к креслу, наследить на блескучем полу, тоже выложенном вразлет сине-зеленой, цвета морской волны, кафельной плиткой. Поборовшись несколько мгновений с неподатливой, упрямой дверью, он опять вышел на крылечко и повторно, с удвоенным прилежанием вытер ботинки, ставя их то на носок, то на пятку, то на боковое ребро. Но без щетки, веника или хотя бы какой-нибудь палочки ботинки очищению поддавались слабо: во многих местах на них оставался засохший грунт, и Василий Иванович забоялся, не погонит ли его чистоплотный, с галстуком-бабочкой на шее хозяин "Элены" в третий раз на доочистку. У него даже промелькнула было мысль, а не плюнуть ли ему на всю эту цирюльню, не обойти ли ее десятой стороной и сразу отправиться к дочери, к зятю Володе, к внукам. Уж коль не получилось у Василия Ивановича с баней, так чего теперь так хлопотать о стрижке и бритье. Ксюша за милую душу обкарнает его ножищами, а побреется Василий Иванович Володькиной безопасной бритвой на тоненькой журавлиной ножке.
Но как все-таки заманчиво было Василию Ивановичу посидеть в парикмахерском кресле перед зеркалами и люстрами, царственно и вальяжно, по-королевски понежиться, полностью отдавая себя во власть мастера-цирюльника. Конечно, он рассчитывал на праздник полный и вполне заслуженный. Но раз не вышло полного, то теперь так мечталось Василию Ивановичу украсть, урвать хоть самую малую его толику, крошечную частичку - постричься, побриться в настоящей парикмахерской, пусть она даже нынче называется по-иному: "Салон красоты "Элен".
Одна только была у Василия Ивановича опасность: не начнет ли вокруг него куражиться девица с голыми грудями и голой спиной, досаждать ему своим бессромным видом, ничуть не заботясь о том, чтоб пострижен и побрит Василий Иванович был так, как ему хочется - затылок скобочкой, виски прямые, борода перед бритьем отпарена чистой белой салфеткой, смоченной в горячей воде-кипятке, потому что двухнедельной давности его щетина - дратва дратвой, без отпаривания ее не возьмешь, обязательно приключится болезненное раздражение кожи. Соломон Яковлевич когда-то все эти привычки и особенности Василия Ивановича знал без всякого напоминания: и скобочку делал ровненькой, хоть циркулем меряй, полукруглой, виски прямые, вровень с основанием уха, а уж подбородок и щеки отпаривал так, что после опасная зингеровская бритва скользила, летала по ним совершенно неслышимо.
Соломона Яковлевича теперь, конечно, не было и не предвиделось, но и отдавать себя на поругание бессромной девице, которая, может, и бритвы толком в руках держать не умеет, Василий Иванович не был намерен, тут уж он затребует себе мастера-мужика и будет стоять на том насмерть.
С этим твердым, непреклонным намерением Василий Иванович и вернулся назад в парикмахерскую. Грузин-чеченец осмотрел его еще раз внимательно и придирчиво, насквозь, словно каким рентгеном, пронизывая грачино-черными своими глазами. Ботинками Василия Ивановича он остался вроде бы доволен, никакого замечания по их поводу больше не высказал, но спросил так, как прежде при Соломоне Яковлевиче клиентов в парикмахерской не спрашивали, будь даже они самого неприглядного вида:
- Чего тебе?!
- Да вот, - чуть искательно, как всегда и говорил с городским начальством, будь то в парикмахерской, бане или поликлинике, отозвался Василий Иванович, - постричься, побриться хочу.
Он вознамерился было для верности и убедительности, по-свойски рассказать грузину-чеченцу о том, что первобытно зарос, ощетинился во время страды (можно было и о самой страде сказать, какой жаркой и порой она в этом году вышла, какой выдался урожай, и как удачно они с Лешкой Мальцом его выхватили до осенних дождей и слякоти), но еще раз глянув на галстук-бабочку, который топорщился на шее у парня, словно угольно-черные усы хищного, разбойного кота, и поостерегся. И кажется, правильно сделал, потому что грузин-чеченец, хозяин заведения, действительно вдруг повел себя хищно и по-разбойному нахально.
- Сто рублей! - сказал он, как отрубил, неожиданно выдавая кавказский свой акцент.
- Сотенную?! - изумился Василий Иванович, но поступил совсем не так, как поступил с охранником возле бани.
Он поставил сумку на пол, безбоязненно стряхнул на пол с шапки снежные соринки-порошу, уже кое-где превратившиеся в капельки воды, и сказал грузину-чеченцу во всеуслышанье, вразумительно и ясно: все-таки тот человек нерусский и, наверное, не все понимает в русской жизни, в русском природном человеке:
- Да меня Соломон Яковлевич (знаешь, кто такой Соломон Яковлевич?!) здесь стриг за два пятьдесят и брил за двадцать копеек!
- Не знаю я никакого Соломона! - еще больше проявляя кавказский акцент и топорщась галстуком-бабочкой уже не по-кошачьи, а по-рысьи, ответил чеченец и сделал по направлению к Василию Ивановичу два мягких, почти неслышимых шага, которые делает рысь или какой иной хищный зверь перед нападением, перед смертельным своим прыжком.
Сотенная в кармане у Василия Ивановича имелась, и нисколько ему не было жалко отдать ее за хорошую, праздничную стрижку и бритье, и нисколько он не забоялся этого чеченца-грузина, который, только сядь к нему в кресло, может стать, тут же и полоснет тебя по шее бритвой или повяжет на эту шею какой-нибудь пояс шахида, а взыграла вдруг в Василии Ивановиче непреклонная гордость и честь, и он не сделал в сторону от чеченца ни единого шага, не покачнулся даже. Глядя ему встречь в туманно-черные глаза своими небесно-голубыми, он лишь еще раз, теперь уже со всей отмашкой и силой встряхнул на блескучий пол лисью дорогую шапку, так жалко ему вдруг стало нежного ее осенне-пепельного меха: намокнет и подпортится, полиняет. Была у Василия Ивановича, русского человека, такая привычка, водилась в его характере и натуре такая твердость, что, если крепко его достать, то вдруг укреплялся он на земле, словно на каком поле Куликовом, Бородинском или на другом-ином ратном поле необъятной русской державы, питался от нее силой и крепостью духа, и никто тогда не мог победить Василия Ивановича.
Он и сейчас сквозь заморский скользкий кафель чувствовал эту силу и опять безбоязненно, как у себя в деревенском доме, еще раз и еще отряхивал на блескуче-ледяные плиты лисью добытую в честной охоте сыном Ваней шапку.
Грузин-чеченец, должно быть, не ожидая от Василия Ивановича такого упорства, вдруг заоглядывался по сторонам, будто ища откуда-то подмоги, подхода тайных, может, даже и переметнувшихся на его сторону прежде стоявших в русском войске полков. Василий Иванович упредил этот подход. Он в последний раз взмахнул шапкой, надел ее на голову чуть набок, наискосок - два пальца от брови, как надевал бескозырку в заграничных плаваниях и походах, и произнес твердо, хотя немного и иносказательно:
- С деньгами к нам придешь, от денег и погибнешь!
Пока грузин-чеченец размышлял над этим иносказанием, Василий Иванович легко, всего в один рывок открыл такую неуступчивую раньше дверь и вышел на улицу.
Теперь ему путь лежал только к Соломону Яковлевичу. Прежде чем идти к дочери, к зятю, к малолетним внукам, нести им свою неудачу, расстройство и огорчение (а уж огорчение было из огорчений - так хорошо задуманный и так трудно заслуженный в летнюю и осеннюю страду праздник вдруг ни за что ни про что сломался, обрушился), хотел Василий Иванович отвести душу, выговориться (дочери, зятю и внукам всего не скажешь - пожалеешь им, пощадишь по-родительски), обсудить обстоятельно и разумно, как же ему теперь быть дальше, как жить всей русской державе без праздника, без великого победного торжества?! Одним ведь лишь трудом, пахотой, посевной и уборкой, сколько ни будь они заманчивыми, не выдюжишь, русская душа не выдержит. Так она устроена, так создана Богом, может, одна-единая душа на всей земной тверди да и на море тоже.
Никакого иного человека, кроме Соломона Яковлевича, с которым мог Василий Иванович поговорить начистоту, со всем откровением и правдой, в городе не было. Он и отправился к нему, обойдя парикмахерскую-цирюльню, словно какое прокаженное место, далеко окрест, семью дорогами, семью мосточками, семью муравьиными тропинками, семью птичьими перелетами.
И угадал как раз вовремя, к сроку да, похоже, и к месту. Соломон Яковлевич в зимнем кожушке-кацавейке, в валенках и с палочкой в руках сидел на крылечке-паперти под не опавшими еще листьями дикого винограда, плюща и хмеля и словно специально ждал, высматривал Василия Ивановича.
- А, Василек... - дружески-приветливо сказал он, ничуть не удивясь его появлению, а, наоборот, как бы даже и укоряя немного, что тот неведомо где подзадержался и опоздал на заранее договоренную встречу.
Ее, конечно, лучше всего было бы провести, организовать на знаменитом железнодорожном мосту, чтобы обоим им, и Соломону Яковлевичу, и Василию Ивановичу, весь их вседержавный городок с церквами, мечетями, костелами-кирхами и синагогами был виден и осязаем, как на ладони. Но это уже было не в силах Соломона Яковлевича - он и на крылечко-то вышел, похоже, с большим трудом.
- Здравствуйте, Соломон Яковлевич, - в ответ на его дальние еще, только призывные слова откликнулся Василий Иванович.
- Здравствуй, здравствуй, - словно наперед зная все его жалобы и кручины, произнес Соломон Яковлевич и указал палочкой на место подле себя. - Садись, рассказывай!
- Так что рассказывать, - покорно и с радостью сел Василий Иванович, через кожушок-кацавейку Соломона Яковлевича и свою крестьянскую стеганку чувствуя, как взаимно обдало их теплом и приветом. - Вот в баню шел, в парикмахерскую, а ничего нету, разруха кругом. Праздника нету!
- Известное дело, - лукаво затаился Соломон Яковлевич, - какой нынче праздник!
Умел он так вот затаиться, прищуриться, молчать долго и выжидательно, думать над каждым словом и даже частью этого слова, будто какой мудрец в пустыне. Умел (года к тому уже клонили) и Василий Иванович рядом с ним помолчать, подумать. Иной раз они и целыми часами-столетиями могли сидеть молча и понимали друг друга много больше, чем самые говорящие и несдержанные в речах люди.
День совсем уже выбился на простор, разгулялся; солнышко, проводив журавлиный встретившийся Василию Ивановичу по дороге ключик в дальние чужестранные края, теперь встало высоко в зенит и настойчиво заглядывало на крылечко под осенне-хмелевые заросли. Соломон Яковлевич поймал один его лучик палочкой, повел за собой вдоль всего укрытия, по древним щелочкам в лавках, по дверным косякам и клямкам и по самой двери, тоже древней, иссеченной щелями и морщинами, но еще нерушимо крепкой, и вдруг передал Василию Ивановичу, хотя у того не было никакого посошка, а лишь голые нахолодавшие на подорожнем ветру руки. Но он безбоязненно принял этот лучик, согрелся им, и тот сразу свернулся в клубочек и затих в ладонях у Василия Ивановича. Так бы и сидеть ему долгие часы, греться лучиком-клубочком, лучиком-котенком, солнышком, переданным Соломоном Яковлевичем, молчать и думать. Но не вышло. Отпустив солнечного котенка на волю, Василий Иванович вдруг вздохнул и, пробуждая Соломона Яковлевича к разговору, сказал с горечью и обидой:
- И вашей бани тоже нет!
- Известное дело - нет, - заученной поговоркой опять повторил Соломон Яковлевич и действительно пробудился к беседе. - Увезли.
- Куда увезли? - не понял его Василий Иванович и даже засомневался, а не заговаривается ли Соломон Яковлевич в полусне и старости - как это можно было увезти стоявшую века на одном и том же месте баню.
- А то ты не знаешь - куда, - обиделся на его непонятливость Соломон Яковлевич. - В Землю обетованную. По камушку, по кирпичику разобрали и увезли на пароходах и самолетах. Одна пропасть осталась.
За Соломоном Яковлевичем и раньше водились всякие такие вот иносказания (Василий Иванович, может, у него им и научился). Любил он да и умел рассказать на досуге какую-нибудь сказку-легенду. И до того достоверно и твердо, что никак нельзя было разобрать - сказка это, иносказание или сущая жизнь и правда. А Василий Иванович умел и любил слушать. Так они и ладили: один рассказывает, уходя мыслями то в прошлое, то в будущее (и чаще всего обходя настоящее), а другой слушает, научается и молчит.
Но сегодня у Соломона Яковлевича не получалось долго рассказывать, а у Василия Ивановича долго слушать. Соломон Яковлевич не уносился замыслом ни в прошлое, ни в будущее; был он весь в сегодняшнем, настоящем дне, сидел в коротенькой кацавейке на крылечке-паперти, опирался изможденными руками в стариковских веснушчатых пятнах на палочку и одиноко печалился:
- И кладбище еврейское скоро увезут! Помереть бы, а то не успею.
- Живите! - остановил его в этих намерениях Василий Иванович, совсем уж не поверив старому своему товарищу: баню, строение, и вправду можно разобрать по кирпичику и перевезти в другое место, а как перевезти кладбище?! Это ведь что - каждую могилу надо раскапывать, останки и кости предков тревожить, - так их там великие тысячи на века накопилось. Всех не потревожишь. А потом - осины, без которых городское еврейское кладбище и помыслить нельзя?! Они, поди, в Земле обетованной, в безводных пустынях и не растут.
- Нас тут теперь всего два еврея и осталось, - печалился дальше о своей жизни Соломон Яковлевич. - Я да Зяма. Помнишь Зяму, который вот там, на той стороне Красной площади галантерейную лавочку держал?
- Конечно, помню! - с поспешностью и охотой отозвался Василий Иванович.
Как ему было не помнить Зяму?! Сколько раз Василий Иванович в детские и юношеские годы подходил вначале с отцом-матерью, а потом уже и самостоятельно к дощатой его лавочке-закуточку, где полным-полно было всякого галантерейного товару: шпилек, булавок, любых размеров иголок и наперстков, пуговиц, гребней и расчесок, но главное - по весне кепок-восьмиклинок. Все окрестные мужики отоваривались у Зямы, выбирали себе обнову по вкусу и размеру, примеряя перед старинным зеркалом, а больше перед ясными очами самого Зямы. Не одну и не две кепочки-восьмиклинки примерил перед теми очами и Василий Иванович. Купил он там и первый подарок Анюте, тогда еще невесте: расписанную цветами, чистейшего шелка шаль на хрупкие ее плечи. Шаль эта до сих пор хранится у Анюты, и накидывает она ее на эти плечи (не такие уже, правда, хрупкие от долгой жизни и тяжкой работы) лишь по самым большим праздникам, но случается, что накидывает и в будний день, если Василий Иванович о том ее попросит.
- Теперь Зяма у нас за раввина, - перебил мечты-воспоминания Василия Ивановича Соломон Яковлевич. - Больше некому. Приходит иногда ко мне, сидим вот тут на крылечке, соревнуемся, кто раньше помрет. И каждому хочется опередить товарища.
- Чего ж так? - опять не до конца понял Соломона Яковлевича Василий Иванович.
- А так, Василек, - вздохнул, переменив на палочке руки Соломон Яковлевич, - что похоронить по древнему еврейскому обычаю будет некому.
- Ну а дети ваши, сыновья? - как бы даже и укорил Соломона Яковлевича за такую тяжелую мысль Василий Иванович. - Что ж, не похоронят?!
- Дети?! - распрямил вдруг спину и откинулся далеко на косую опору лавочки Соломон Яковлевич. - Дети все там! Была бы дочь, может, и осталась бы при отце. А сыновья все уехали. Живут, богатеют. Я им говорю иногда: "Дети мои, зачем вам столько денег, зачем вам столько счастья?"
- И что же вам отвечают дети? - во всем понимая тоску-кручину Соломина Яковлевича, вставил в его рассказ слово Василий Иванович.
- Смеются, - помрачнел, вмиг темнея лицом до серого, землистого какого-то цвета Соломон Яковлевич. - Грозятся меня тоже увезти. И ведь увезут, Василек, живого или мертвого. А ты говоришь - баня...
Как, какими словами и утешениями ответить на эту кручину Соломона Яковлевича, Василий Иванович не знал, не случалось у них прежде подобных разговоров. Он сидел молча, жалея, что упустил из рук солнечный, согревающий его лучик: теперь вот и ладони озябли, и запястья, и по всему телу побежал холодный болезненный озноб. Ни лисья меховая шапка, ни стеганка-телогрейка, надежно подпоясанная морским ремнем, тепла не удерживали.
- А я ехать не хочу, - тоже, должно быть, озябнув, поплотней запахнул на тощей груди кожушок Соломон Яковлевич. - У меня здесь - Родина, Земля обетованная. В земле этой лежат мои отец, мать, жена, мои замученные, потопленные в реке сестры - как ехать, как бросить их в тоске и одиночестве?! Я эту землю люблю, может, сильней иного русского человека.
Василий Иванович продолжал молчать, боясь каким-нибудь неосторожным словом оборвать печальные мысли Соломона Яковлевича. Беда его, кручина куда тяжелей, чем у Василия Ивановича. У того праздник отняли, торжество души, а у Соломона Яковлевича Родину хотят отнять. Отечество, за которое он столько страданий перенес, столько крови пролил. И кто хочет отнять: дети родные, сыновья, на этом земле им рожденные. И ведь отымут, у живого или мертвого Мертвому ему будет даже больней.
Теперь Соломон Яковлевич не посмел прерывать молчаливые, но зримо понятные ему мысли Василия Ивановича. Он сидел, нахохлившись, как старая отяжелевшая птица - ворон или ястреб, прежде (совсем еще недавно) такого высокого полета и кружения, но нынче упавшая на землю, на пустынные камни и пески. Казалось, жизнь в нем безвозвратно замерла, ушла из тела в раскаленные эти пески и камни, и впору было звать к Соломону Яковлевичу на последнее свидание раввина Зяму. Но оказалось, что это не так. Соломон Яковлевич вдруг встряхнул совсем было упавшей на грудь головой, опять распрямился на лавочке и сказал Василию Ивановичу, быть может, самые заветные свои слова:
- Нет, Василек, не умеют люди жить друг с другом как соседи, как родичи! Не умеют и не хотят! Вот я говорю своим детям, сыновьям: "Вы полюбите русского человека, как любите самих себя!"
- И что же они? - едва слышимо спросил Василий Иванович.
- Смеются. Говорят, пусть вначале русские полюбят евреев, как самих себя, а может, даже и сильнее.
"Полюбят", - встрепенулся было сказать Василий Иванович и не смог, хотя слово это (может быть, самое великое из человеческих слов) уже трепетало у него на устах, рвалось из души и сердца наружу. Рвалось, но не вырвалось. Сам же Соломон Яковлевич и упредил его порыв.
- Полюбит, Василек, но не сегодня. А вот когда начнут нас всех без разбора опять топить в реках крови, жечь в огне, распинать на крестах, тогда мы и вспомним про любовь. Да будет поздно. Попомнишь мое слово, Василек, предсмертное слово старого еврея.
Нечего было Василию Ивановичу сказать на это Соломону Яковлевичу. Нечего было и тому добавить. Так и застыли они опять в молчании, два давних, теперь уже почти сравнявшихся в возрасте друга-товарища, породненные одним солнцем, одним ветром и одной землею, не обделенные вроде бы и взаимной любовью на этом занесенном опадающими листьями, похожем на склеп крылечке. Разъединяла их лишь крошечная какая-то, почти невидимая песчинка, занесенная сюда, в склеп попутным ветром, раскаленная докрасна пронзительно-острым лучом солнца, незримая, невидимая и оттого неуловимая, застящая стариковские их глаза.
Несколько раз Василий Иванович отмахивался от нее, отмахивался и Соломон Яковлевич, но она упрямо носилась по крылечку, гулко ударяясь то в дверь, то в резные столбы-опоры, то в лавочку, мешала разговору и дружбе Василия Ивановича с Соломон Яковлевичем.
Наконец они оба истомились борьбой с ней, и Василий Иванович решил оставить песчинку без всякого внимания. Носится - ну и пусть себе носится. В полях на пахоте и жатве, в заморских походах-плаваньях не такие пески-ураганы приходилось ему встречать лицом и грудью и ничего - одолел, выдюжил и жив покуда. Жив, слава Богу, и Соломон Яковлевич, еще с пещерного своего времени песком и глиной овеянный навеки. Василий Иванович смахнул песчинку под самый потолок, в заросли плюща и дикого винограда (пусть там поблудит среди пожухлых листьев, может, и найдет себе где пристанище), глянул в выцветшие дружески-печальные глаза Соломона Яковлевича и вдруг спросил его о самом обыкновенном, о самом простом и ясном, как не раз за долгие годы и десятилетия их дружбы спрашивал:
- Может, пострижете меня. Соломон Яковлевич, побреете? Больше ведь некому.
Соломон Яковлевич, кажется, давно ждал этой его просьбы, несколько раз опытно поглядывал на выбивающиеся из-под шапки длинные, с завитками на концах космы-волосы Василия Ивановича, на железной крепости седую щетину на скулах, которая сама просилась под трофейную зингеровскую бритву. Давно, с самого первого шага Василия Ивановича под своды крылечка ждал Соломон Яковлевич заветной этой для них обоих просьбы, давно знал на нее и ответ.
- Нет, Василек, - глубоко и устало вздохнул он, - не постригу и не побрею! Плохо - не приучен, а хорошо - уже не могу, силы нет, дыхания.
- А как же мне быть? - тоже не сдержал в груди своего огорчения Василий Иванович.
Мечталось ему, что хоть тут, рядом с Соломоном Яковлевичем обретет он для себя малую толику замысленного великого праздника. Посидит, окутанный простынею, пусть не в роскошно-мягком кресле, а на самом обыкновенном жестком табурете, но зато весь во власти и обиходе Соломона Яковлевича. Ощутит у себя на голове и подбородке его всегда верные руки, безотказные ножницы и бритву, вдохнет всей грудью ни с чем не сравнимый запах послевоенного одеколона "Красная Москва", который у запасливого Соломона Яковлевича где-нибудь да хранится. Но вот и эта надежда Василия Ивановича на самую малую долю праздника обрывалась, гасла, и никакие уговоры тут не помогут: старые, изработавшиеся руки Соломона Яковлевича часто подрагивали на палочке, словно посмертно уже сложенные крест-накрест. Тревожить эти руки и возвращать назад к работе было уже никак нельзя...
Ничего больше не говоря Соломону Яковлевичу, Василий Иванович начал суетно наращивать у подножья крылечка подорожную свою и опасно завалившуюся набок сумку. Оставалось ему теперь одно-единое: отправиться к Ксюше, посидеть так часок, не обременяя ее ни помывкой, ни стрижкой да и наладиться в обратную дорогу.
Но Соломон Яковлевич, несмотря на свою полудрему, заметил его поспешные сборы, опять понял и легко разгадал невеселые мысли Василия Ивановича и вдруг улыбнулся ему по-стариковски мудрою улыбкой и сказал так, как говорят только в сказках:
- Ты вот что, Василек, не печалься. Иди в эту самую "Акву", дай охраннику сто рублей (есть у тебя сто рублей?).
- Есть, - честно признался Василий Иванович. - А возьмет?
- Возьмет, возьмет, - успокоил его Соломон Яковлевич. - Они теперь все берут. Скажешь только, что ты от Соломона Яковлевича. Он меня должен помнить, я его еще вот такусеньким стриг.
Василий Иванович стал прикидывать в уме, как и какой это разговор у него может случиться с парнем-охранником? За всю свою жизнь ни разу Василий Иванович и никому не давал таких вот потаенных, неправедных денег. Но, видно, времена вконец переменились, и надо приучаться, кривить душой, иначе не выживешь.
- А как возьмет, - все с той же легкой, сказочной усмешкой научал его дальше Соломон Яковлевич, - так сразу и впустит тебя в баню. Есть там у них, сохранен пока для таких, как мы с тобой, нищих да убогих, закуточек один, пещерка. В парилку вряд ли проникнешь, а помыться помоешься.
Василий Иванович слушал Соломона Яковлевича внимательно и прилежно, но сам все еще сомневался и сомневался: идти не идти, и склонен был все-таки - не идти. Да пропади они пропадом со своей "Аквой", выживаем как-нибудь, отпаримся и отмоемся дома возле печки из чугунка-корыта под присмотрел Анюты, самой верной парильщицы и банщицы. Впервой, что ли?! Она же и пострижет его чугунно-тяжелыми домашними ножницами ничуть не хуже, чем в салоне красоты, а уж побриться как-нибудь сам сладит.
Но Соломон Яковлевич сказал вдруг последние свои слова:
- А как помоешься, выправишься, то приходи ко мне. По рюмочке выпьем (у меня есть в запасе), попрощаемся, Василек.
Не произнеси этих роковых слов Соломон Яковлевич о прощании и вечной разлуке (а похоже, дело к тому и клонится), Василий Иванович все ж таки не пошел бы ни в какую "Акву", не стал бы поганить душу свою, тайно проникать в банный закуток-пещерку, где, поди, темно, угарно, и неведомо, вернешься ли оттуда живым. Но Соломон Яковлевич зовет его на прощание, будто уже на поминки. А на прощание надо являться чистым душой и телом, смиренным, как после исповеди и покаяния.
- Ждите! - дал твердое обещание-клятву Василий Иванович, подхватил сумку и уже хотел было сбежать с высоких ступенек на землю, но вдруг оборотился к Соломону Яковлевичу и спросил его тоже почти как в сказке: - А кто такой Вениамин Карлович, не знаете?
- Кто ж его не знает? - переменил на палочке окаменевшие вдруг руки Соломон Яковлевич.
Василий Иванович застыл перед ним, будто рыцарь на раздорожье, надеясь, что Соломон Яковлевич сейчас доподлинно расскажет и объяснит, что это за Вениамин Карлович такой, который после обеда сам-един будет мыться во всей "Акве", загнав остальной черносошенный люд в закуток-пещерку. И уж после этих слов-объяснений Соломона Яковлевича Василий Иванович точно будет знать, куда ему идти: налево, направо или прямым-прямехонько на верную свою гибель. Но Соломон Яковлевич тайны не выдал, зачем-то сохранил ее под сводами крылечка-паперти. То ли по забывчивости, старости и дремоте, то ли для пользы самого же Василия Ивановича, которому лучше всей правды и не знать, иначе никакого прощания у них не получится. Он лишь, торопя Василия Ивановича, махнул ему вновь задрожавшей рукой, мол, иди, Василек, иди, ничего не бойся, скажи только, что ты от Соломона Яковлевича.
И Василий Иванович пошел. Легко и охотно, будто кто невидимый подталкивал его в спину, будто несли его вдоль крепостной стены паруса-крылья, обещая скорый, так долго, все лето и всю осень, ожидаемый праздник.
Пока сидели они с Соломоном Яковлевичем в уединении, пока предавались воспоминаниям и дружбе, солнце уже одолело зенит и полдень, перевалилось через все церковные маковки, через все остроконечные кирхи, костелы, через мусульманские серпы-полумесяцы на минаретах и даже через синагогу, в которой читал сейчас только одному ему ведомую еврейскую молитву раввин Зяма, и стало медленно скатываться за крепостную стену в поля, луговые разливы, леса и перелески, до изнеможения и упадка истосковавшиеся по нему.
Василий Иванович вприщур поглядывал на полуденное солнышко, ни на миг не упуская его из виду, словно в самый разгар трудового дня, когда только о нем и думаешь: успеется ли тебе до полного солнечного заката сделать еще круг по ржаному полю, добрать несжатую полоску или допахать последний клинышек. Все шло к тому, что вроде бы успеется. В баню он попадет до обеда, до захвата ее и оккупации неясным этим Вениамином Карловичем (да может, его и вовсе не существует, одна выдумка и молва). Тревога Василия Ивановича была теперь совсем об ином: как сладит он с парнем-охранником, с русоволосым этим Иваном-царевичем? Несколько раз Василий Иванович прямо на ходу доставал из кошелька сотенную бумажку, перекладывал ее из руки в руку, но и в одной ладони, и в другой ей было тесно и как-то липко, она комкалась там и мялась, и Василий Иванович никак не мог представить, как он и с какими словами передаст эту вконец измятую и, наверное, уже порванную бумажку. Парень в таком виде ее, поди, и не возьмет...
Подошел к "Акве-Посейдону" Василий Иванович совсем в маете, притаился за колонной и стал выглядывать парня, стараясь по виду его и по обличью понять, в каком тот нынче настроении: добром, расположительном или, наоборот, в грозно-неприступном, когда лучше обойти его десятой дорогой.
Но все сложилось и обошлось как нельзя удачно. Парень сам заметил Василия Ивановича за колонной, подошел к нему нешироким, мирно-гражданским шагом и спросил, как старого знакомца и почти товарища:
- Ну что, добыл деньги?
- Добыл, добыл, - радуясь простоте и обыкновению разговора, бодро откликнулся Василий Иванович и раскрыл во всю необъятную ее широту и даль ладонь. - Вот, возьми сотенную. Я от Соломона Яковлевича.
При имени Соломона Яковлевича парень не то чтобы вздрогнул или насторожился, но как-то по-цыплячьи вытянул шею, будто готовясь к тому, что невидимо стоящий за ним Соломон Яковлевич сейчас туго, в два обхвата повяжет на этой цыплячьей шее белоснежную простынь и после уж, хоть плачь, хоть не плачь, хоть тысячу раз оборачивайся к стоящей в дверном проеме матери, а стричься все равно придется, от Соломона Яковлевича никуда не ускользнешь и никуда не скроешься.
- Ладно, отец (вишь, сразу Василий Иванович и отцом ему стал), - потеплел душой парень и, вбирая в плечи, словно наголо уже, под "ноль", с коротеньким только, пионерским чубчиком, остриженную голову, приоткрыл железную дверь-ворота. - Одежду спрячь в предбаннике, а сам ныряй вот туда, в боковую дверь, после постучишься - я открою.
При этом он ловко снял с ладони Василия Ивановича, которая точь-в-точь как после жаркого трудового дня горела-пылала негасимым огнем-пожаром, сотенную бумажку, заученно расправил ее на колене, посмотрел на свет, не фальшивая ли, не поддельная, ли, и, сложив пополам, спрятал в нагрудный карман камуфляжной охранной своей формы, который, кажется, специально и был пришит только для того, чтоб прятать в него такие вот сторожевые, с оглядкой добытые деньги.
Дважды давать наставления Василию Ивановну не надо: человек он все-таки флотский, опытный, без повторных подсказок понимал, что раздеться надо, как по тревоге, спрятать одежду в таком потаенном месте, чтоб после никакой старшина или мичман ее днем с огнем не отыскал, а самому - в боковую дверь под запор охранник, и - вот она, вожделенная баня, пусть даже и закуток-пещерка, пусть даже и темно, и угарно в ней, но вода горячая, струйная, да, поди, и парилка есть и веничек (не может не быть - на то и баня), так что живем, Василий Иванович, празднуем, обмываем все грехи души и тела.
Он и вправду стал раздеваться, как по тревоге. Впрочем, по тревоге одеваются, а раздеваются даже на флоте уж как придется, вальяжно и не торопясь - надо ведь форму, будь она рабочая, повседневная или парадная, сложить складочка к складочке, ниточка к ниточке, чтоб тот же старшина-мичман не придрался и не послал вне очереди драить гальюн. Но нынче была тревога на раздевание, словно перед кораблекрушением, когда матросу надо выпрыгнуть за борт налегке, с одним только спасательным кругом, чтоб не потонуть от намокшей тяжелой одежки и набухших ботинок, которые двумя свинцовыми гирями утащат тебя на дно во владения Посейдона.
Шапку, телогрейку и обе рубахи, верхнюю и нательную, Василий Иванович снял в две секунды. Засунул их за кадку с громадным цветком, похожим на помесь пальмы и фикуса, которую наметанным глазом сразу углядел, выхватил возле двери-боковушки. А вот с ботинками и брюками пришлось повозиться подольше. Впопыхах Василий Иванович потянул на левом ботинке шнурок не за тот кончик, и он захлестнулся крепким, почти морским узлом. Рвать добротный, на совесть сделанный шнурок (для армии, для флота даже в нынешнюю разруху все не абы как делается) Василию Ивановичу было жалко, и он начал выпутывать его из крючков-зацепов неразвязанным, надеясь как-нибудь высвободить ногу (развяжет потом, при одевании, когда с временем будет посвободней). Нога, нахолодавшая на осеннем ветру и морозце и оттого уменьшившаяся в объеме, действительно высвободилась, хотя и с трудом, наперекосяк, едва не разорвав ботинка. Со штанами тоже получилась задержка, и все из-за проклятой этой молнии на ширинке-гульфике. Терпеть Василий Иванович не может всех этих молний-бегунков. На флотских брюках-клеш вон как все умно придумано, без всяких гульфиков-прорезей на клапане, и ничего, моряки обходятся, не сетуют на неудобства. А в сухопутных войсках и на гражданке понавыдумывали черт знает чего. Раньше хоть пуговицы были, все сподручней, а теперь кругом одни только молнии, которые то сами по себе расстегиваются в стыдно-неподходящий и неприятный момент, то, наоборот, никаким макаром их не распустишь, хоть рви пополам штанину.
Но с Божьей помощью справился Василий Иванович и с брюками, сложил как можно аккуратней и прикрыл ими все остальные одежки. Издалека теперь и понять было трудно: одежки за кадкой лежат или какой половичок, оставленный рачительной уборщицей. Туда же, к самой стенке, впритык с отопительной батареей (тоже схрон надежный и неузнаваемый), под широкие пальмово-фикусные листья приспособил Василий Иванович ботинки и хозяйственную Анютину сумку, выудив из нее только мочалку и мыло. Теперь Василию Ивановичу оставалось снять последнее: нижние нательные штаны, подштанники, которые он с ранней осени, оберегая больную свою, радикулитную спину, всегда начинал носить. Но парень-охранник продолжал стоять в дверном проеме, готовясь поскорее закрыть, защелкнуть Василия Ивановича в баньке-пещере. Раздеваться при нем до последнего, до полной наготы Василий Иванович постеснялся: оно хотя и парень, мужчина, но все-таки молоденький совсем, в сыновья Василию Ивановичу годится, видеть ему стариковские телеса в предбаннике ни к чему. В самой бане, в горячем ее пару и тумане - это иное дело, там стеснения уже никакого нет, они бы с парнем этим и спинку друг другу взаимно потерли. Но парень на службе, на карауле, о бане и о парилке у него речь пока не идет.
По стеснительной этой причине Василий Иванович решил, что белые зимние подштанники, с атласно-серебристым начесом, он спрячет за дверью в помывочном зале и спрячет в сухом по возможности месте. Высоко вскинутой рукой он дал знать охраннику, мол, все, готов - ныряю, можешь закрывать, задраивать дверь наглухо. С неудержимой, обуявшей его с ног до головы радостью, что вот еще одна секунда, одно мгновение - и он уже там, в горячей, очистительной купели, Василий Иванович схватился за дверную латунную ручку, по-морскому начищенную до солнечного сияния и блеска (службу тут, в "Посейдоне", похоже, знают!). Оставалось сделать лишь последний, не очень уж и широкий шаг, чтоб переступить порожек и сгинуть, затеряться в сумерках пещерной парилки, где ни одна живая душа его не отыщет, тем более - под надежным запором и охраной верного Ивана-царевича.
И вот в это самое радостное и самое торжественное мгновение, в эту серебряно-быструю секунду, когда до заслуженного трудом и потом праздника очищения души и тела оставалось даже не полный шаг, а всего полшага да и то воробьиного, мелкого, откуда-то сверху, с крутой лестницы, которая вела на второй этаж, где, судя по всему, и были основные апартаменты помывочной "Аквы", вдруг раздался грозный, поистине посейдоновоский голос:
- Это что еще тут за чучело?!
Василий Иванович невольно вздрогнул, задержал шаг и увидел на верхней ступеньке лестницы громадного роста голым-голого мужчину со смолянисто-черной, в завитках и колечках бородой до самого пояса. Глаза у него были навыкате, нос крутой, горбатый, грудь и плечи сплошь поросшие непроходимо-густой шерстью, прямо-таки какой-то Абиссинец. Но, главное, какой был у этого Абиссинца живот! Такого живота, такого пуза Василий Иванович в своей жизни сроду не видел: в два, а то, может, даже и в целых три ведерных самовара, и блестело оно, лоснилось тоже по-самоварному. Это сколько же надо есть и пить, сколько надо не работать, лежать в безделии на пуховых полатях, чтобы вырастить, вынянчить и выпестовать такое пузо?! Не объявись это пузо, Василий Иванович, может, насмерть испугался бы грозного посейдоновского голоса, курчавой (смола-смолой) бороды, крутого, горбатого носа, воловьих навыкате глаз, но пятиведерный живот-пузо, глядя на который нельзя было сдержать усмешку (а то и ухмылку), спас его, сохранил от страха. Василий Иванович отпустил дверную ручку, оборотился к Абиссинцу в полный оборот, лицом и грудью, и сказал просто и обыкновенно, защитил себя, как и привык всегда защищать от недоброго слова и обиды:
- Почему это - чучело?! Человек!
Абиссинец с изумлением посмотрел на него сверху вниз, шевельнул, похоже, в негодовании бородой и носом, так что по предбаннику из одного его конца в другой пронесся холодно-зимний сквозняк, потом свел воедино густые, кустистые брови и громче прежнего крикнул парню-охраннику:
- Иван! (надо же, успел подумать Василий Иванович, все-таки угадал - Ваней зовут парня). Откуда он здесь?!
- Не знаю, Вениамин Карлович, - сразу забыл весь уговор с Василием Ивановичем Иван-царевич, заробел и вытянулся по стойке "смирно". - Просочился как-то...
Абиссинец угрожающе колыхнул животом, так, что в нем даже что-то забулькало, заклокотало, и спустился на ступеньку ниже, кажется, раздумывая, над кем ему в первую очередь чинить расправу: над просочившимся в "Аквацентр" в неурочный час Василием Ивановичем или над караульным охранником, который позволил ему просочиться. Было похоже, что в первую очередь достанется, конечно, караульному Ивану-царевичу. Он ведь для того здесь и поставлен, ему за то и деньги платят (может, и немалые), чтоб никто сюда ногой не мог ступить, чтоб ни единая пташка, ни единая пчелка и комар не смели залететь, пока моется-парится, отдыхает утомленным животом-пузом Вениамин Карлович. Василию Ивановичу жалко стало парня, и он приготовился уже защитить его, взять всю вину на себя: мол, это он самовольно проник в "Аквацентр", и казнить надо его. Но в это время, должно быть, услышав громкие, возмущенные крики Вениамина Карловича, со всех сторон верхнего этажа на ступеньки лестницы и на неширокий балкончик, нависающий над предбанником, начали валом валить голые его собанники и сопарильщики, бессоромно вперемешку мужчины и женщины. Был тут народец всякого вида и всякого наречия: такие же горбоносые и волоокие, как Вениамин Карлович, Абиссинец, такие же и толстые, мясистые, с ведерными животами. Но вдоволь мелькало и других: то русоволосых и голубоглазых, то кареоких и по-южному решительных, чем-то похожих на хозяина цирюльни грузина-чеченца, а то и с глазами косенькими, вприщур.
Увидев Василия Ивановича, стоящего, словно на юру и плахе, в старомодных своих подштанниках, они вдруг стали безудержно, обливаясь слезами и потом, хохотать над ним, тыкать в него пальцами, улюлюкать, забавляя сами себя, а больше Вениамина Карловича, кричать что-то нехорошее и обидное. Но Василий Иванович особого внимания на это не обращал: может, и правда, он выглядел сейчас для этих разноплеменных людей смешным огородным пугалом и чучелом. Заботило его совсем иное: как бы выручить парня-охранника, Ивана-царевича, который поник, кажется, духом и уныло, хотя и все так же по стойке "смирно" стоял у железно-каменной двери. Василию Ивановичу что, посмеются над ним еще малость, потешатся от души да, поди, и выпроводят восвояси, а вот парню каково. Похоже, несдобровать ему за такое упущение и промах.
Василий Иванович поспешно искал в умел и памяти какие-нибудь оправдательные, защитительные для парня слова и, кажется, уже нашел их, но вдруг откуда-то из верхнеэтажного закоулка вынырнула грудастая голая девка (ну точь-в-точь сподручница грузина-чеченца из парикмахерской, или все они теперь на один манер, грудастые и голозадые?). Она прилепилась всем телом к Вениамину Карловичу, для начала тоже хохотнула вместе с многоликим сборищем над Василием Ивановичем, а потом нежданно-негаданно в задоре и неудержимом веселье крикнула на всю посейдоновскую "Акву":
- Да что вы глядите на него?! Бейте!
Публике клич этот и призыв понравились, пришлись по душе и сердцу; она в предчувствии новой забавы захлебнулась на мгновение в хохоте и вопросительно посмотрела на Вениамина Карловича, на Абиссинца. Тот взгляд этот перехватил, понял и, по достоинству оценивая вожделенное желание собанщиков, усмехнулся и не столько губами, которых за непробиваемо-черной бородой и усами и видно-то не было, сколько опять колыхнувшимся из стороны в сторону семиведерным животом:
- А что, и правда! Давненько мы никого не били!
И тут же вся вдохновенная призывом, жаждущая побоища и мести толпа стала обтекать по ступенькам и лесенкам Вениамина Карловича и сосредотачиваться в предбаннике, чтоб с победным криком, со стягами и знаменами, с барабанным выстуком и трубным воем кинуться на грозного врага. Но Вениамин Карлович на мгновение задержал ее и, как и полагалось по древнему военному искусству, вызвал на поединок с притаившимся возле кадки с пальмой-фикусом врагом, самого смелого и надежного ратника:
- Иван!
Ратник понял приказ и призыв с полуслова. В два широких, разгонистых шага оказался рядом с Василием Ивановичем, невидимо размахнулся (Василий Иванович успел еще заметить и оценить, какой ловкий, какой заученный, вытренированный годами сторожевой службы был у Ивана-царевича замах) и ударил его под дых, под ложечку и сопатку с удвоенной и утроенной силой, как будто в один раз, одним ударом хотел искупить всю свою вину перед Вениамином Карловичем. Когда же Василий Иванович под тяжестью этого удара согнулся, сломался пополам, теряя дыхание и свет в глазах, Иван-царевич подловил его на слове и с новой, теперь уже, может, и удесятеренной силой ударил в лицо и подбородок. Кровь сразу хлынула у Василия Ивановича изо рта, носа и даже из ушей, передние зубы, похоже, были выбиты, глаза затекли багровыми синяками и опухолью.
- У-у-ух! - возликовала от этого удара Ивана-царевича, а еще больше от вида и запаха крови готовая к битве и расправе толпа.
Теперь уже, ни в чем не слушая своего предводителя и вождя Абиссинца, она самовольно накинулась на Василия Ивановича, который, к ее немалому удивлению, все-таки на ногах устоял, привалился лишь спиной к мраморно-белой, во многих местах обагренной его кровью двери.
Этой стойкости толпа простить Василию Ивановичу не могла, в два-три совместных удара свалила на цементно-кафельный пол и принялась бить под великий крик и задор, кому как придется и кому где достается место. Били лежачего всем миром и всем, чем ни попадя: кулаками с резкого, точного размаха согласно учению каратэ, дзюдо, у-шу, русского кулачного боя, ногами и коленками, попавшимися под руку шайками, витыми железными массажерами и еще Бог знает чем.
- По морде его, по сусалам! - слышались разъяренные сражением призывы.
- По печени!
- По почкам!
- По селезенке!
- По я...м! - визжала, заходясь в истоме, полногрудая парикмахерша и старалась ударить Василия Ивановича в пах неведомо как и когда оказавшейся у нее на ноге остроносой туфелькой-копытом.
Ей помогал, удар в удар, Иван-царевич, отрабатывал свою вину и провинность, бил кованым солдатским ботинком и в пах, и в живот, и в грудь, но больше всего целил Василию Ивановичу в лицо и голову.
Никогда в жизни никто не бил Василия Ивановича. В детские, младенческие годы отец с матерью пальцем его не тронули. Не за что было. Мальчишкой, парнем он рос послушным, ответственным и трудолюбивым. За что же его можно бить-наказывать? Никто и в школьные, юношеские годы Василия не тронул, как это случается со многими другими ребятами, когда подходит им пора ухаживать-дружить с невестами. У Василия с Анютой со школьных лет еще все сложилось взаимосогласно, и никто не смел встать между ними, ни свои, деревенские ребята, ни чужие какие-нибудь, заезжие и залетные: все понимали, что Василия и Анюту ни зазорным словом, ни кулачным боем, ни водой студеной не разольешь и не рассоединишь.
Никого не тронул за всю свою жизнь пальцем и Василий Иванович. Не было к тому случая. Драчунов каких-нибудь разнимал, конечно, но не столько кулаками, не флотским ремнем (флотских, известное дело - не тронь!), сколько добрым, вразумительным словом. Уже годам к восемнадцати был он парнем крепким, рассудительным и во всем справедливым, не Васькой, не Васильком (это только Соломон Яковлевич по отечески так прозывал его), а Василием, Василием Ивановичем, таким остался и поныне.
И вот теперь, лежа окровавленный на полу, он за прежнее то свое небитие, за ту прежнюю свою справедливость и расплачивался. Били его наплывами, то, притомившись, чуть затихая, то наваливались с новой силой, каждый выхваляясь своими особо метким и ловким ударом, вконец пьянея от вида и запаха крови. Спасением для Василия Ивановича было бы провалиться в беспамятство. Но память, сознание не уходили от него, не покидали его, будто затем, чтобы он сохранил все разъяренные крики и все удары не только в изуродованном донельзя теле, но и в душе, которая оставалась чистой и нетронутой. Он свернулся калачиком, поджал ноги к самому подбородку, руками обхватил голову, доставляя побойщикам неудобство при расправе, и не издал ни единого слова, ни единого звука, повторяя в чистой этой, неизуродованной душе, не больно стойкий прежде в вере, клятвенные, молитвенные слова: "Бог на крестном своем распятии терпел, и нам надо терпеть". Иногда, правда, в полный голос хотелось ему сказать разгневанным своим побойщикам совсем другие, зримые, земные слова: "Я от Соломона Яковлевича!" Но разбитые его, окровавленные губы, распухший язык не могли выговорить ни слова. Бессловесное, безропотное его молчание (ни жалобы, ни стона) приводило побойщиком еще в большую ярость и остервенение. Опять слышались за каждым ударом все те же воинственные крики и призывы:
- По морде его!
- По печени!
- По ребрам!
Один лишь Вениамин Карлович во всем побоище не участвовал. Он царственно стоял на верхней ступеньке лестницы, свысока оглядывал поле битвы, где все шло вроде бы к полной и неопровержимой победе. Но чем-то он явно был недоволен, чего-то ему явно не хватало для полного торжества и ликования. И он сам все-таки решил вмешаться в ход сражения. Несмотря на неподъемно-тяжелый, самоварный свой живот, Вениамин Карлович легко соскользнул с лестницы и, разбрасывая во все стороны уже заметно ослабевших бойцов, в потусторонней какой-то ярости и негодовании крикнул:
- Разве так их бьют?! Разве так их убивают!?
В одно движение, холеной и будто даже когтистой рукой-лапой он подхватил Василия Ивановича за окровавленную шею с пола, прижал обмякшее его тело к двери, а потом без всякого замаха ударил точно в переносицу, в глаза таким выверенным и страшным ударом, каким и вправду не бьют, а сразу убивают насмерть.
Голова Василия Ивановича от этого удара безвольно дернулась, слетая, кажется, со всех шейных позвонков, и он наконец провалился в темное, глухое беспамятство, словно в подводные посейдоновские владения, откуда нет уже и не может быть возврата...
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Но не так-то легко, оказалось, убить русского православного человека. Очнулся, пришел в себя Василий Иванович глубокой, всевластно расстилающейся по земле и небу ночью. С трудом и болью открыв заплывшие стеклянно-каменными кровоподтеками глаза, он увидел высоко над собой звезды. Они светили тихо и мирно, как будто ничего страшного не произошло, не случилось, как будто внизу далеко окрест укрепился благословенный покой: осенней живородящей прелью пахнет земля; журчит где-то поблизости ручей; сонно колышутся и скрипят под напором ветра деревья. Весь мир спит и радуется своему отдохновенному сну. Сколько раз в жизни так вот путеводно светили Василию Ивановичу прямо в глаза высокие голубые звезды: и в детские ранние годы, когда он вместе с другими ребятишками (а чаще с отцом) пас в ночном колхозный лошадиный табун; и в морских походах и скитаниях, когда их подводной лодке удавалось вынырнуть на поверхность, и матросы по очереди выходили на шаткую палубу, чтоб вдохнуть полной грудью свежего океанского воздуха (а как истомилась по нему эта грудь, только морякам-подводникам и известно!) да хоть мельком, хоть ненадолго взглянуть на звездное живое небо, которое столько раз снилось в душных подводных кубриках на подвесных, похожих на детские колыбели-люльки кроватях. А как светили ночные глазастые звезды Василию Ивановичу на полевом стане во время жатвы, словно крошечные какие птицы-жаворонки поднимаясь все выше и выше в небо, чтоб к утру упасть оттуда на скошенную хлебную ниву! И совсем уж нельзя забыть Василию Ивановичу звездного охранного сияния, когда встречался он с Анютой в потаенном месте под густой вербой-ракитой над речным обрывом!
И вот теперь светили ему те же самые звезды, кучно сойдясь в созвездия: Большую и Малую Медведицы, Стожары, Весы, Кассиопею; он глядел на них, стараясь различить каждую звездочку по отдельности, и никак не мог понять, жив он или давно уже мертв, и все это ему просто чудится из могильной провальной темноты.
Но вот выкатила на небо, словно из какой дневной еще засады, круглолицая, полная луна. По-матерински раздвигая изумрудно-нахолодавшие звезды (иные так и гася), она встала точно напротив Василия Ивановича, как не раз вставала на полевом стане, когда они вели с Лешкой Мальцом задушевные свои разговоры. И Василий Иванович мгновение за мгновением утвердился в мысли, что все-таки он еще на этом свете и все-таки жив. Звезды в избитой его, набатным гулом гудящей и почти оторванной голове могли, конечно, почудиться, привидиться и примерещиться по малой своей величине (не горячие ли искры в глазах от последнего удара Абиссинца?!), но широколицая и чуть даже как бы скуластая луна привидиться не могла: слишком ярко, прозрачно и устойчиво светила она, слишком требовательно тормошила и пробуждала Василия Ивановича к жизни: вставай, мол, нечего лежать, нежиться, пора думать-промышлять о завтрашнем дне. Василий Иванович во всем подчинился живительному этому, бодрящему взгляду и говору луны. С трудом поворачивая по-воловьи взбухшую шею, он огляделся по сторонам и с удивлением обнаружил, что лежит, оказывается, за крепостной стеной на крутом поросшем черным уже к зиме бурьяном склоне. Лежит весь окровавленный, синюшный, в одних только изорванных нательных подштаниках. Судя по всему, побойщики в веселье своем и отваге выбросили его беспамятного (а они, поди, думали, что уже и мертвого), взяв за руки, за ноги, через широкое заново прорубленное в "Аква-Посейдоне" окно.
Осторожно и опытно, как это делал всякое утро во время радикулитной своей болезни, Василий Иванович пошевелил вначале хребтом-позвоночником, поясницей, потом ногами и руками, проверяя, поломаны они, покрошены вконец или только побиты. Первые движения дались ему с великим усилием и болью, а потом - ничего, притерпелся и даже возликовал: позвоночник, руки-ноги вроде бы целы, послушны; ребра в нескольких местах, похоже, поломаны или пошли трещинами, но это переносимо - заживет и срастется. Нет и еще раз нет, не так-то просто сломать становой стожильный хребет русскому человеку, даже если навалиться на него всем миром. Веками он складывался в неодолимую свою силу, креп; случалось, конечно, что и гнулся, и кренился, словно терпящее бедствие в буревом океане судно, но ни разу не сломался пополам, когда уже и нечего думать о том, чтобы распрямиться и встать в полный рост. Вот и нынче он с Божьей помощью выстоял, и Василию Ивановичу не к лицу впадать в отчаяние, надо помаленьку подниматься и думать-гадать, как быть дальше. Для начала он со всеми предосторожностями, кое-как удерживая в голове набатно-колокольный звон и гудение, сел в бурьянах, чтоб еще раз и теперь уже повнимательней оглядеться вокруг. И как же он опять возрадовался, когда обнаружил, что побойщики помилосердствовали и вслед за мертвым его телом выбросили вон из "Аква-центра" за крепостную стену и какой-никакой скарб Василия Ивановича. Перевернувшись на живот, он по-пластунски, по-мересьевски дополз, дотянулся первым делом до походной своей, гостевой сумки, которая сиротливо темнела под высоким кустом полыни. Увы, ничего в ней Василий Иванович не обнаружил. Ни съестных несенных им в дар Ксюше и внукам припасов: курицы, сметаны, яблок (может, позарились на них сами побойщики, порядком изголодавшись во время битвы, или какие иные, смелые люди уже здесь, в бурьянах, обойдя стороной бездыханно-мертвое тело Василия Ивановича. Но, может, и не побойщики, может, вовсе и не люди (чего грешить попусту!), а, скорее всего, бродячие закрепостные собаки-псы растащили все съестные дарования, так обильно политые вожделенной для них кровью). Жаль, конечно, было Василию Ивановичу съестных этих припасов, старания Анютиных рук, но еще больше было жаль ему, что не достанутся деревенские, домашние лакомства внукам, Анечке и Сереже, которые, поди, ждали сегодня деда, ждали, да так и не дождались, легли спать в обиде и слезах.
Не было в сумке и чистых, переменных одежек Василия Ивановича: ни морской, отборного хлопка и двойного пошива тельняшки, ни снежно-белых отглаженных Анютой подштанников, ни самих штанов-брюк, ни флотского, побывавшего в стольких походах вместе с Василием Ивановичем ремня, ни лисьей его знаменитой шапки (вот уж беда так беда: как огорчится да, может, и обидится на Василия Ивановича Ваня - не уберег, не сохранил дорогого сыновьего подарка). Обнаружил Василий Иванович лишь рядом с сумкой за соседним колючим кустом дурнишника незаменимую свою телогрейку-спасительницу да один ботинок (как раз тот, на котором Василий Иванович впопыхах никак не мог развязать захлестнувшийся морским узлом шнурок). На телогрейку, видимо, никто не позарился по причине ветхости и неприглядности, а ботинок - чего ж его брать, коль он один, беспарный.
Поднявшись с живота и груди на колени, Василий Иванович с долгими перерывами и отдохновениями, едва-едва шевеля изувеченными руками, надел телогрейку прямо на голое тело, прикрыл и грудь, и живот, и поломанные ребра. И только теперь он с изумлением осознал и удивился, как же он не замерз здесь, в бурьянах, в одних только подштанниках, ведь вчера были уже и мороз, и пороша, и зябкий, ледяной почти ветер. Но, видно, Бог смилостивился над ним и тут: пока били его, убивали в "Аква-Посейдоне", пока выбрасывали за крепостную стену и делили богатые мужичьи пожитки и съестные дары, Бог отодвинул, услал в другие края, за долы и леса и мороз, и порошу, и ледяной ветер, а сюда в одночасье вернул теплую листопадную осень, когда в земле идет еще животворящая, неумирающая жизнь: в лесу за одну ночь вырастают грибы-опята; в полях наливаются соком и крепнут зеленя; в реках и озерах играет на заре, по-молодому бунтует рыба.
Сумку на произвол судьбы Василий Иванович решил в бурьянах не бросать: все будет отрада Анюте, что сумка, к которой она так привыкла за долгие годы употребления, уцелела, сохранилась. А вот как быть с ботинком, Василий Иванович в бедственном своем положении никак не мог сообразить. Бросать его тоже, конечно, было жалко: ботинок по-морскому крепок и ладен, сшит в расчете на многолетнюю носку не только в мирных, но, может быть, и в боевых походах, к тому же, опять-таки, подарок Вани. Но и обувать его на ногу, чтоб после идти, шкандыбая и переваливаясь со ступни на ступню, было и неприглядно, и неумно, да, поди, и больно от каждого толчка, далеко при таком инвалидском ходе не уйдешь. Тут уж ровненько надо пробираться, по-кошачьи, выверяя и ощупывая ступнями всякий изгиб тропинки, всякий бугорок на ней и выступ. Конечно, Василию Ивановичу стоило бы поискать второй ботинок: может, скатился куда-нибудь в сторону и таится теперь в кустах полыни и нехворощи, но никаких сил у Василия Ивановича на этот поиск не было, да еще в темноте, ведь, как ярко ни сияй луна, как изумрудно ни разгорайся звезды и созвездия, а все ж таки не дневной это свет, и ничего полуслепыми своими, затекшими кровью глазами Василий Иванович не высмотрит. Поэтому он решил ботинок оставить под кустом полыни: глядишь, кто-нибудь обнаружит по свету оба ботинка в паре, и будет тому человеку большая радость. Но прежде чем сиротливо оставить ботинок под кустиком, Василий Иванович на всякий случай нырнул рукой внутрь его - не затаилось ли там чего? И вышло по надежде Василия Ивановича - затаилось, да еще какое необходимое ему сейчас, какое важное: два шерстяных связанных Анютой носка, которые он, разоблачаясь в предбаннике, сунул впопыхах комком в один ботинок. Идти в обратную дорогу в этих носках он не намеревался, в сумке были запасные, чистые, но они тоже безвозвратно исчезли. Может, сам Вениамин Карлович на них позарился: носки были еще ненадеванные, только-только с проворных спиц и крючков Анюты, белой овечьей шерсти, с двумя красными ободками по щиколоткам. В таких носках не стыдно на любом приеме-празднике появиться, хоть здесь, в городе, хоть в области, хоть в самой Москве в Кремлевских Грановитых и прочих палатах, где Вениамин Карлович, без всякого сомнения, и бывает. Кому же там еще и бывать, если не таким абиссинцам с самоварно начищенным животом, с курчаво-рослыми бородами до пояса и ниже. Они нынче правят державой да, может, и всем миром. Пусть на здоровье носит, пусть помнит об Анюте и вспоминает о Василии Ивановиче, если только носки эти придутся ему по ноге.
А Василий Иванович обойдется и старыми, ношенными. По холодной ночной земле ему будет идти в них и тепло, и мягко.
Вот только куда идти нынче, куда пробираться Василию Ивановичу? Разумнее всего, конечно, было бы пойти к Ксюше. Она живет не так уж чтоб и далеко отсюда, от крепостной стены, за железнодорожным мостом и базаром, и уж как-нибудь Василий Иванович доковыляет до нее, доползет. Но ведь и никак нельзя ему туда идти, нельзя появляться перед дочерью, зятем и малолетники внуками в таком побито-безобразном виде: что они подумают, что помыслят об отце и деде?! Сколько лет потом ни пройди, а Анечка и Сережа будут помнить деда именно таким, окровавленным, страшным, в одних только нижних штанах и телогрейке на голое тело. Нет уж, подобного видения и подобной памяти внукам Василий Иванович по себе оставить не должен и ни за что не оставит.
По второму случаю и прикидке, можно было пойти к Соломону Яковлевичу, он живет еще ближе Ксюши. Человек опытный, в прошлом военный, видывал Соломон Яковлевич на своем веку людей побитых и изуродованных много хлеще и неузнаваемой, ничем его не удивишь, ничем не испугаешь. Он и сам бывал в жизни не раз таким же побитым и убогим, прятался от человеческого глаза по глиняным пещерам, лесам и буеракам.
Но не получалось Василию Ивановичу идти и к Соломону Яковлевичу. Ну как он поднимет, взбудоражит среди ночи больного, немощного человека, у которого бессонные мысли сейчас совсем об ином: как бы умереть на родной, политой собственной кровью земле и как бы остаться навечно лежать в этой обетованной для него супеси. Да и как рассказать Соломону Яковлевичу всю правду о побоище в "Аква-Посейдоне"?! Ведь он тут же начнет виниться перед Василием Ивановичем, укорять себя со слезами и стенаниями, что послал его туда на страшные, изуверские побои и верную гибель, что не открыл ему запретную тайну о Вениамине Карловиче, об Абиссинце, хотя и знал ее доподлинно. И дострадается Соломон Яковлевич, довинится к утру до того, что выйдет в кожушке-кацавейке на заросшее плющом крылечко-паперть да и упадет там замертво.
Оставалась у Василия Ивановича в запасе еще милиция. Но туда он не пойдет уж и подавно, туда по нынешним временам ходят с деньгами и подношениями, а не с побитыми обличьями. И если даже Василий Иванович доподлинно укажет на Вениамина Карловича и других его сподручных-побойщиков, правды за ним все равно не будет, потому как деньги (и притом большие и пребольшие) за Вениамином Карловичем. Никто Василию Ивановичу в милиции не поверит, никто даже и слушать не станет. И мало того, что не поверить и не станет, так еще и посчитает его за какого-нибудь беспутного пьяницу и бродягу, вытолкает в три шеи за порог и для острастки добавит резиновыми своими дубинками и шомполами.
Нет, в милицию, в правосудие дороги Василию Ивановичу никакой не предвидится, потому как никакого иного правосудия сейчас в мире, кроме Божьего суда, не отыщешь. На то и будем уповать...
В общем, одна-единая предстала Василию Ивановичу в ночи дорога: домой, в родное свое село-селение Житний Колос, к бессонно ждущей его Анюте. Стыдиться ему перед ней нечего, знает его душа Анюта вдоль и поперек, примет, какой ни есть, обмоет и горячей водой, и горючими слезами.
Но прежде чем отправиться в дорогу, предстояло Василию Ивановичу подняться с полулежачего своего положения, с колен если не в полный рост, то хотя бы в полроста, на шаткие, непослушные ноги. Распрямив скомканные, скрюченные носки, Василий Иванович принялся ладить их на ноги, потянулся дрожащей, опухшей рукой, но оказалось, что сделать это не так-то просто. Поясница у него не гнулась и не слушалась, ноги не подвигались к коленам, а были где-то необозримо далеко и как будто отдельно от Василия Ивановича. Подобная немощь случалась с ним и раньше, во время радикулитной болезни, но тогда всякий раз рядом была Анюта, она надевала Василию Ивановичу и носки, и домашние войлочные тапочки, и кирзовые сапоги, если ему хотелось и мечталось выйти на свежий воздух. Но сейчас Анюты не предвиделось, сколько ни кричи, сколько ни зови, а не дозовешься ее, сидит она одна-одинешенька в горнице, ждет-печалится, куда это запропастился Василий Иванович, всегда такой точный в обещаниях, в уходах и приходах, уж не загулял ли где после бани, не завился ли куда с развеселой, буйной компанией? Получалось, что загулял и завился и не искупить теперь ему вины перед Анютой.
И все ж таки с носками он и в полной своей беспомощности сладил: кое-как прислонил коленки к груди и, на ощупь захватив носком пальцы, натянул вначале один, а потом удачно, с малой лишь болью перевернулся с боку на бок и справился с другим уже как бы и попроворней. Ногам сразу стало по-домашнему тепло и томно, будто были они в не одних только изношенных, со следами ремонта и штопки носках, а еще и в мягоньких привычных валенках или даже лежали на горячей печи под пуховой подушкой.
Василий Иванович совсем воспрянул духом и принялся подбадривать себя в душе неслышно-простодушными словами: "Ничего, Василий Иванович, ничего, не такое переживали, не такие напасти и разорения переносили - перенесем и эти". От утешительных, идуших из самых глубин сердца, бодрых слов, он почувствовал, как к нему возвращается, приливает во все члены напрочь было ушедшая сила. Василий Иванович стал подниматься на ноги, но как только сделал первое движение, так сразу и понял, что прилив этот пока обманный и что без какой-либо побочной опоры, палочки или клюки (захватить бы Василию Ивановичу в дорогу свой испытанный болезнями костылик, так ведь и не думалось о таком приключении) ему не встать ни в полный, ни в половинный рост. Василий Иванович опять лег на живот и грудь и начал шарить вокруг себя, искать, нет ли где поблизости этой опоры-помощницы. И надо же, Бог смилостивился над ним и здесь: нашел себе Василий Иванович подмогу да еще какую прочную и неломкую - лыжную ухватистую палку с острым шипом и колечком на одном конце и с пластмассовой ручкой и веревочной петелькой - на другом. Должно быть, еще прошлой зимой какие-нибудь ребятишки, а то, может, и взрослые физкультурники, катаясь здесь с горки, обронили ее в глубоком снегу и никак не нашли. А летом искать забыли, да и как ее тут найдешь в непроходимых зарослях полыни, лебеды и дурышника. А вот Василий Иванович нашел, и теперь - куда твой лыжник - можно вставать на ноги, будто со снежной пелены, в которую ты при спуске с горки неосторожно свалился на вираже и повороте. Палка была легонькой, но вправду неодолимой крепкой, сделанной из какой-то специальной пластмассы или алюминиевого сплава. Долгое лежание в снегу, в талой воде, а после в бурьянах нисколько палке не повредило. Василий Иванович лишь обтер ее, новую свою подружку и спасительницу, рукавом телогрейки, укрепился чуть наискосок шипом в податливую землю и, безбоязненно опираясь на нее всем телом, всего в два движения - вначале с живота и груди на колени, а потом с колен на ноги - поднялся во весь рост и возликовал: "Ого-го, живем, дышим!"
Но как раз дышать Василию Ивановичу и было совсем невмоготу. В груди, избитой, может быть, много сильней всего остального тела, что-то опасно заклокотало, зашлось нестерпимой болью, горлом вдруг изобильно пола кровь, и Василий Иванович едва-едва удержался на ногах, чтоб не упасть на землю, и теперь, скорее всего, замертво. Удержала его все та же лыжная палка: он оперся на нее сразу двумя руками, стараясь глотнуть сквозь кровь и мокроту как можно больше осеннего чистого воздуха. С третьего или четвертого раза ему это удалось: кровь под встречным напором воздушной струи перестала идти, побежала по верно указанной ей дороге, по венам и артериям, по самым маленьким возвращающимся к жизни сосудикам и капиллярам. Василий Иванович дал ей время как следует разогнаться, а потом, подобрав с земли сумку, осторожно, с шатанием и почти земным поклоном сделал первый шаг, точно такой же, как делал его в начальный день жатвы, поднятый по тревоге к комбайну Анатолием Николаевичем.
И - ничего - пошел. За первым шагом последовал и другой, и третий. Тело, конечно, все нестерпимо болело и стонало, и особенно побитые ребра, но обретало жизнь, привыкало к движению, привыкало и к боли. Василию Ивановичу повезло: дорога до самого мосточка-кладки через ручей скатывались все время под уклон, все вниз и вниз, облегая ему шаг и как бы подталкивая в спину. Мешала Василию Ивановичу лишь Анютина сумка. Совершенно пустая, опорожненная до самого донышка, она казалась неодолимо тяжело и, наверное, по здравому рассуждению, ее надо было бы оставить, припрятать где-нибудь в бурьянах, чтоб после, уже по здоровью, прийти и забрать нетронутую, припорошенную опавшими листьями, а может, уже и снегом. Никто на нее не позарится, никто не тронет, мало ли каких ненужных, износившихся вещей, почти что хлама выбрасывает окрестный люд сюда, на крепостной склон. Но, опять-таки, как жало было Василию Ивановичу Анютиной сумки: она хоть и тяжелила ему попеременно руки, изуродованные и обессиленные, но как согревала все тело, как укрепляла его в вере, что домой он непременно дойдет и вернет Анюте сумку в полной целости и сохранности. Перекладывая сумку из ладони в ладонь, меняя ее местами с опорной палкой, он ощущал на дерматиновых ручках следы и вмятины от Анютиных пальцев, терся о них своими, окровавленными, с содранной почти до костей кожей, и от Анютиного тепла раны на увечных этих пальцах, казалось, сразу заживали, переставая саднить и кровоточить.
Чудо-городок оставался все дальше и дальше за спиной Василия Ивановича, и он ни разу не оглянулся на него: на золоченые маковки-купола, на высокие шпили костелов и кирх, на соперничающий с луной мусульманский полумесяц, на синагогу и пагоду. Нечего ему теперь было оглядываться на них: все они тонули в непроглядной темноте и мраке, да, может, и вовсе их там не было, за спиной Василия Ивановича, укрытой одной лишь побитой ветром телогрейкой.
На мосточке-кладке Василий Иванович дал себе первый отдых. Вначале сел, а потом и лег на шаткие его доски. Внутри все горело, пылало стоградусным огнем, и надо было этот огонь хоть как-то загасить, иначе он испепелит все дотла, останутся вместо души и сердца одни только обугленные головешки. Ручеек был хоть и мал, но к осени всклень наполнился подземной и дождевой водой, и теперь она клокотала, манила, звала к себе Василия Ивановича почти вровень с настилом. Он изловчился и по-звериному, будто пораненный какой и уходящий от погони волк, окунул в нее тоже горящую огнем-пожаром голову. Холодная ключевая вода сразу остудила ее, оттянула на себя жар, промыла заплывшие опухолью глаза. В подводном исцелительном положении Василий Иванович держал голову несколько минут, пока хватило дыхания, а потом, с трудом разжав иссеченные, вздутые губы, начал пить затяжными, долгими глотками. Но загасить в груди и ниже, во всем нутре огнедышащий пожар и жажду ему до конца не удалось. Холодно-резкая, с крупинками не растаявшего еще вчерашнего льда ручейная вода так полоснула Василия Ивановича по выбитым зубам и обнаженным деснам, что он опять чуть не потерял сознания и не провалился в беспамятную темноту.
Когда же в в голове у Василия Ивановича немного прояснилось, он принялся пить теперь в полглотка, осторожно, и робко, не столько даже пить, сколько просто смачивать губы и утолять жажду лишь маленькими капельками воды, которые проскальзывали в гортань, минуя выкрошенные зубы.
И все-таки после водяной купели и омовения Василию Ивановичу стало много легче. Всем тем же прежним манером, уже почти заученным, он поднялся с живота и груди вначале на колени, а потом при помощи палки и в полный рост, хотя назвать согбенную его фигуру полным ростом, опять-таки, никак было нельзя. Доведись кому-нибудь видеть сейчас Василия Ивановича издалека, то принял бы он его в лучшем случае за ночного пришедшего на водопой зверя, а худшем за нищего, бездомного бомжа, который уже всякого зверя, потому что человеческого облика в нем уже нет - одно привидение. На человека в Василии Ивановиче указывала лишь Анютина дерматиновая сумка, мятая, в пустоте своей почти невесомая, пахнущая домашними родными запахами: хлебом, молоком, яблоками. И пока эта сумка с Василием Ивановичем, пока держит он ее со всей крепостью, которая только осталась в руке, пока ощущает содранной кожей вмятинки от Анютиных пальцев, Василий Иванович все ж таки человек, а не зверь, и ему надо идти-торопиться домой.
Дорога за мосточком была сухой, песчаной. Вчерашнее предзакатное солнце не только растопило нестойкую еще порошу, но и выбрало из грунта всю влагу, словно заранее знало, что Василию Ивановичу придется идти по этой дороге в одних только шерстяных изношенных носках, которые очень податливы к любой мокроте. Василий Иванович радовался этой сухости и теплоте в ногах и, хотя в его нынешнем положении ни о каких иных болезнях думать не приходилось, он все же мгновениями и думал, заговаривал и суеверно, будто бабка-шептунья, предостерегал себя от возможного радикулита, который только и сторожит, когда ты по неосторожности и небрежению промочишь ноги.
Но радости Василию Ивановичу хватило ненадолго. Сколь ни опирался он на палку, сколько ни поддерживал ею шаткое свое тело, а каждый шаг давался ему в великим трудом и болью. В глазах Василия Ивановича опять темнело, и тогда все вокруг становилось непроглядно-черным, как обугленным: и тучные зеленя вдоль дороги, и березовые, с утра такие снежно-беленькие, чуткие перелески, и даже сами звезды и луна виделись ему уже не ярко горящими в ночи и свисающими над дорогою угольками и окружным полымем, а черно-могильными навечно потухшими головешками. Не в силах больше сделать ни единого шага, Василий Иванович в изнеможении опускался, а вернее, падал (иногда так и со всего размаха) на тропинку, долго лежал на ней, невмочь пошевелить ни ногой, ни рукой и помня лишь об одном - с ним ли Анютина сумка. Подняться, встать на ноги у него никаких сил и вовсе уже не было, а главное, не было желания. Наоборот, ему хотелось лежать и лежать на этой сухой песчаной тропинке да, может, так и умереть на ней.
Но каждый раз, когда Василий Иванович без всякого сожаления и вправду готов был умереть, ему вдруг слышался высоко в небе, поверх обугленных звезд и созвездий призывный журавлиный вскрик. Василий Иванович вскидывал голову и зримо видел, как прямо над ним тревожно бьется крыльями и курлычет тот, последний, самый малый журавушка, вслед за которым Василий Иванович так спешил утром в чудо-городок по белой заметенной порошей тропинке. Крошечный этот журавушка-черточка, должно быть, почуял приключившуюся с Василием Ивановичем беду и вот, оставив уносящийся в теплые края, в вырий клин, вернулся назад, чтоб указать в ночи попавшему в несчастье товарищу дорогу, довести его до родного дома, до родного крылечка. Обмануть верного этого и преданного в дружбе журавушку-черточку Василий Иванович не мог. Он расстегивал телогрейку и припадал голой грудью вначале к песчаной сухой тропинке, а потом к целебным росным травам на ее обочине. Они оттягивали из его умирающего тела, брали на себя сорокаградусный жар, немощь и слабость духа, а возвращали трехжильную силу и стойкость: каждая травинка, каждый корешок, каждый не засохший еще к зиме цветочек отдавали ему капельку-другую лекарственного своего снадобья. Василий Иванович пил его и окровавленными губами, и обнаженной грудью, вдыхал все до единого целебные запахи. Сознание возвращалось к нему, и тогда он подавал знак журавушке на журавлином, так понятном им обоим, птице и человеку, языке:
- Иду, иду...
И действительно поднимался и шел, ни на мгновение на выпуская из виду журавлиную черточку, держась за нее взглядом, будто за путеводную вновь возгоревшуюся на темном небе звездочку-уголек.
Так и дошел Василий Иванович до околицы Житнего Колоса. Здесь он опять прилег на землю, притаился, дал устояться дыханию, приладиться друг к другу ребрам, а когда поднялся и оперся на палочку, то благодарственно, по-дружески сказал журавушке:
- Ну теперь возвращайся к своим, догоняй. Я сам как-нибудь.
Но верный журавлик не оставил его, повел дальше, правда, не по широкой деревенской улице, а по-за огородами, по рыбацкой торной дорожке. Василий Иванович во всем согласился с ним. В ранний этот, предрассветный час идти ему по улице было, конечно, рискованно. Не дай Бог, кто-нибудь встретится, увидит его полуголого-побитого, испугается до полусмерти и, сгоряча не признав Василия Ивановича, подумает, не тать ли какой ночной объявился у них в селе, не вор ли, не поджигатель ли, поднимет крик, ударит в набат. А если признает, так и того хуже: не хотелось Василию Ивановичу никому показываться в таком неприглядном, опоганенном виде.
Поэтому он безропотно покорился журавушке и стал пробираться к дому по рыбацкой, местами так и сырой дорожке, но теперь уж чего беречься, дом вон там, за высокими вербами-ракитами, что тянутся вдоль речной уремы. Возле них надо взять чуть левее к своему огороду, а дальше мимо стожка сена, мимо копешек соломы-обмялицы и аира, заготовленного Василием Ивановичем на подстилку скотине и всякой другой дворовой живности, пробраться к сараям и задним воротам. Пусть совсем уже вроде бы близкий, сотни и тысячи раз хоженный, а дался Василию Ивановичу с великим упорством и замедлением. Окончательно он выбился из сил и возле ракит опять залег в побитый вчерашним морозцем аир, теряя из виду проводника-журавушку, которого так по неосторожности отправил раньше времени в обратный путь. Нет уж, без журавушки последние эти метры он не одолеет, надо было держаться за него до самого крылечка, а потом уж и отпустить с Богом и благодарностью, попросив, конечно, предварительно Анюту, чтоб приманила его во двор, напоила свежей колодезной водой, посыпала вдоволь зерна, проса, пшеницы, а лучше ржи, жита. Сытней жита нет на земле злака и растения, оно возвращает скорей всякого иного пропитания растерянные, утраченные в труде или в дороге силы. А уж силы журавушке, чтоб догнать далеко улетевший родительский клинышек, нужны и удвоенные, и утроенные, и удесятеренные.
Отдохнув и опять высмотрев в небе путеводного журавушку, подлинного своего Ангела-спасителя, который, оказывается, нет, не улетел, а вьется над самой головой, Василий Иванович одолел крутой взгорок, подъем от речной уремы через грядки к стожку сена и копешкам соломы и наконец увидел дом.
Свет в нем горел по всем шести окнам: в горнице, на кухне, в спаленке и даже на крылечке-веранде. Сердце у Василия Ивановича вначале охолонуло, а потом вспыхнуло горячей неудержимой болью. Не спит Анюта и, должно быть, не спала всю ночь, дожидаясь его, во всем непутевого, загулявшего.
И только теперь Василий Иванович по-настоящему испугался, как же он появится перед ней в таком виде, что скажет в свое оправдание и свое искупление. Привалившись всем телом к стожку сена, пахнущего луговыми живительными травами: овсяницей, осокой: гусятником, он стал лихорадочно искать в душе эти слова, но никак не находил их. Кругом Василий Иванович был виноват перед Анютой и лучше всего ему, наверное, войдя в дом, помолчать в покаянии и стыде. А вот для журавушки Василий Иванович необходимые слова нашел.
- Ну, прощай, брат! - сказал он почти в голос. - Спасибо тебе за все!
Журавушка слова эти услышал, несколько раз приветно взмахнул крыльями-черточками, но не улетел догонять материнский и отцовский клин, а опустился на землю где-то за копешками, словно нарочито затем, чтоб доглядеть, как Василий Иванович войдет во двор и поднимется на крылечко.
Томить дальше и себя, и журавушку Василий Иванович не посмел. Он, как мог, пригладил рукой всклокоченные, со сгустками запекшейся крови волосы и приступил к воротам. К удивлению его и к радости, они оказались незапертыми. Похоже, Анюта специально не закрыла их на щеколду и крючок, ожидая Василия Ивановича именно с этой, тыльной, стороны дома. И не ошиблась, учуяла все как есть: отсюда, с речной уремы, он и явился.
Незапертой, а лишь плотно притворенной, чтоб не побило ее ночным ветром, обнаружил Василий Иванович и дверь на крылечке-веранде. Но открыл он ее не сразу, а вначале по-хозяйски поставил в уголок подорожную лыжную палочку, обтер о половичок все ж таки насквозь промокшие носки, и лишь после этого потянул на себя легонько скрипнувшую, будто ойкнувшую створку.
И сразу, в тот же миг на веранду из дома выметнулась Анюта. Несколько коротеньких мгновений они смотрели друг на друга в полном, немом молчании, и каждому было видно и понятно, сколько страданий и боли оба они вынесли за эту длинную страшную ночь. Наконец Василий Иванович протянул Анюте сбереженную сумку и, усилием разжав запекшиеся губы, сказал:
- Вот, возьми.
Анюта приняла ее из рук в руки, как самую большую драгоценность и награду, целую и нигде не поврежденную, разве что всего в двух-трех местах тронутую песком да травяной зеленью. Когда же сумка оказалась в ее ладони и привычно нашла вмятины на ручках, Анюта вдруг не выдержала и зашлась в тяжелом, несдержанном плаче. Но был он совсем недолгим, всего секундным, потому что Василий Иванович уже падал в полном изнеможении Анюте на грудь и на руки. Она подхватила его на лету, обняла, подставила плечо и повела в горницу в дивану. Так, наверное, вели в незапамятные ратные времена с поля брани раненых своих, а может, уже и полумертвых мужей, братьев и отцов, Ивана, Петра, Тихона, жены, матери и сестры милосердия: одних к выздоровлению и жизни, к славе и почету, а других к смертному одру.
И привела. Диван был широко расстелен, распахнут, судя по всему еще с вечера, ждал, манил к себе Василия Ивановича белизной простынь, пуховых подушек и пододеяльника. Ложиться на него надо было в чистоте тела, в послебанной радости и отдохновении души, оттеняя белоснежные эти простыни-подушки голубой, как морская штилевая вода, тельняшкой. Но не вышло на этот раз, не получилось, и Василий Иванович не посмел даже прикоснуться к лебяжьим пуховикам не то что рукой, но даже взглядом. Он из последних сел уперся возле дивана, и Анюта мгновенно поняла его, как всегда и понимала в любых домашних делах-обиходах. Быстрым широким движением она отодвинула в сторону к изножью дивана празднично-белую постель и уложила Василия Ивановича на один лишь холщовый половичок, хотя и тот, может быть, надо было бы сохранить, уберечь от соприкосновения с грязно-окровавленным одеянием Василия Ивановича: телогрейкой, подштанниками и черно-мокрыми носками. Но это было уже не в его воле: теперь всем командовала и распоряжалась Анюта. Без единого лишнего слова (только тихие вздохи и придыхания), без единой слезы, как и полагается сестре милосердия, она принялась обихаживать Василия Ивановича. Первым делом сняла носки, потом подштанники, от которых остались одни только ленточки-лоскутики, а потом и телогрейку, умело, как будто всю жизнь только тем и занималась, что врачевала больных и раненых, перевернув Василия Ивановича с боку на бок. Когда же он остался лежать на холщовом половичке, словно уже на смертном одре, совершенно нагой и голый, ожидая последнего в своей жизни омовения, Анюта вдруг подхватила с изножья дивана белопенные простыни, стала пеленать в них, в белые эти одежды Василия Ивановича, как малого неразумного ребенка, дитя, чтобы они вобрали в себя из его изуродованного тела и всю грязь, и всю кровь, и всю боль. Он во всем покорился Анюте, стесняясь не столько своей наготы, сколько изуродованного этого, жалкого тела. Анюта, кажется, догадалась о его страданиях и теперь, нарушив молчание, тихо и ласково повторяла утешительные, оберегающие слова:
- Потерпи немножко, потерпи.
Он и терпел, стараясь быть послушным больным и раненым, не доставлять сестре милосердия излишних хлопот. Но когда Анюта, укутав его до самого подбородка одеялами, ушла зачем-то на кухню, Василий Иванович не выдержал и застонал, как только и может стонать в беспамятстве смертельно раненный боец и матрос. И ему вдруг причудилось-послышалось, что вместе с ним застонал и старенький, расшатанный диван, на котором Василий Иванович лежал, и весь дом, и вся земля под ним и дальше, на огородах, на речной уреме, на густо-ковровых зеленях - так больно ей сейчас стало и так непереносимо.
Анюта вернулась через несколько минут, и не с пустыми руками, а с полным, налитым всклень стаканом водки. Приподняв голову Василия Ивановича над подушкой, она твердо и требовательно приказала ему:
- Выпей!
Василий Иванович и тут безропотно подчинился Анюте, понимая, что ему надо сейчас выпить водку до самого донышка, до капельки, что это необходимо и исцелительно, но он боялся, сможет ли разжать губы и сможет ли вытерпеть боль, которая непременно возникнет, взметнется, коснись только водка разбитых десен с остатками зубов. А сестра милосердия уже подносила стакан к губам, опять просила и требовала от бойца, солдата и матроса:
- Потерпи немножко, потерпи.
От этих ее ласково-требовательных слов губы у Василия Ивановича разжались сами собой, и он, легко одолевая режущую, разрывающую десны боль, принялся пить водку долгими, затяжными глотками, будто за праздничным, величальным столом, и сразу стал проваливаться в сладкую темноту и истому, но прежде чем провалиться окончательно, успел прошептать Анюте в полубреду и в полусне:
- Там, за копешкой журавлик. Накорми и напои, ему лететь далеко!
- Накормлю и напою, - пообещала Анюта, поплотнее укрывая Василия Ивановича одеялами.
... И больше он ничего не помнил и не слышал...
* * *
Проснулся Василий Иванович, когда в окнах сияло тихое осеннее солнце. Сколько он спал, ему было неведомо: всего несколько часов или, может быть, несколько беспамятных суток? Время теперь текло как бы помимо Василия Ивановича, то окончательно замирая и останавливаясь, то, наоборот, безудержно уносясь вперед. Течение времени было ведомо только одной Анюте. Она сидела рядом с диваном на стуле, часто меняла на голове Василия Ивановича холодный, остужающий компресс и еще чаще вздыхала тайным своим вздохом сестры милосердия и сострадания. Василий Иванович долго, исподтишка, из-под полуприкрытых век смотрел на нее, не выдавая своего пробуждения, и никак не мог насмотреться, такой царевной-невестой она показалась ему в эти первые минуты возвращения к жизни. Наконец Василий Иванович не выдержал и подал знак, что и вправду живой, что не умер от злых побоев и увечий. Он улыбнулся ей, спасенный в жестокой битве Божьим промыслом, как улыбался, может быть, только долгие годы тому назад на первом их стеснительном еще свидании. Анюта улыбнулась ответно, поменяла на голове Василия Ивановича марлевый компресс и вдруг сказала так, как могла сказать тоже лишь в молодые их годы, когда важны не сами слова, а то, что таится за ними:
- Ох, Вася-Вася! Ох, горе ты мое и печаль!
Но не заплакала, как того можно было ожидать, а, скрестив руки на груди, безотрывно смотрела на Василия Ивановича, хотя смотреть на его изуродованное лицо, наверное, было и страшно.
Он незаметно отвернулся, будто бы затем, чтоб поглядеть в окошко (что там нынче за день, что за солнышко, что за ведро?), а на самом деле - чтоб хоть ненадолго скрыть эти увечья, эти побитые, порванные губы, затекшие неразличимые глаза, рассеченные скулы. Таким Анюта его еще ни разу не видела, и он не хотел, чтобы она его таким видела.
Побойная ночь, казалось, ничем Василию Ивановичу не запомнилась, разве что одним только журавушкой-черточкой, приведшим его к дому, и Василий Иванович вознамерился было спросить Анюту (лишь бы отвлечь ее от неминуемого разговора-расспроса, как это, и как это, и за что это расправился с ним в городе), напоен ли, накормлен ли журавушка, летел ли он догонять своих сородичей или до сих пор отдыхает за копешками соломы, клюет зерно, пьет колодезную студеную воду?
Но ни о чем этом он Анюту не спросил, все это вдруг в одно мгновение отошло, отлетело от Василия Ивановича, будто ничего и не было, и он, поворачиваясь к ней всем лицом и даже намереваясь спустить с дивана на пол ноги, сказал совсем иное:
- Вот что, Аня, позови-ка ты Лешку Мальца и Анатолия Николаевича.
- Зачем это?! - словно сторожевая какая птица, встрепенулась на стуле Анюта.
- Зови, зови, - уже не попросил, а прямо-таки приказал Василий Иванович, как, может, и редко когда приказывал ей за всю совместно прожитую жизнь. - Дело есть, разговор!
В какой иной момент Анюта, наверное, и воспротивилась бы Василию Ивановичу, нашла бы свои резоны, что ни Лешку Мальца, ни, тем более, Анатолия Николаевича сейчас звать никак нельзя, что у Василия Ивановича на сегодняшний день одно-единое дело - лежа-лежать на диване, обретать хоть какие-то начатки жизни, и уж если звать, то звать надо врача или, на худой конец, сельского их фельдшера. Но взглянув на него еще раз, она верно учуяла, что много больше, вдвое и втрое нельзя в эти минуты вставать поперек Василия Ивановича: надо звать всех зовимых, иначе он опять впадет в беспамятство, потеряет и дар речи, и дар жизни.
- Только не поднимайся! - попросила она Василия Ивановича, уже на ходу надевая повседневную свою домашнюю телогрейку.
- Да куда там подниматься, - твердо заверил Анюту Василий Иванович и самостоятельно вернул ноги на прежнее место, только теперь ощутив, что они у него помыты и облачены в новые шерстяные носки.
* * *
... Первым на мотоцикле, словно вихрь и ураган, примчался к Василию Ивановичу Лешка Малец.
Влетев в дом и еще с порога, не подходя близко, взглянув на поверженного своего наставника и учителя, он с угрозою и решительностью закричал:
- Кто, Василий Иванович?!
- Люди, Лешка, люди, - спокойно и тихо, стараясь унять его решимость, ответил Василий Иванович.
Потом появился на "газике" и Анатолий Николаевич. И точно так же, как Лешка Малец, слово в слово спросил Василия Ивановича:
- Кто это?! А?!
Но и ему Василий Иванович ответил все так же уклончиво, хотя и во всем правдиво и верно:
- Люди, Анатолий Николаевич. Кто же еще - люди!
Лешка не находил себе места, бегал из угла в угол горницы, кипятился, все больше и больше загораясь мальчишеской отвагой и решимостью, и было видно, что только скажи, только намекни ему Василий Иванович, кто же это, на самом-то деле, так изуродовал, искалечил его, и Лешка, схватив монтировку: немедленно бросится в одиночку, без всякой подмоги и товарищества мстить врагам и убийцам. И ведь отомстит, победит их всех до единого - такая в нем была сейчас сила и смелость.
Анатолий Николаевич вел себя, конечно, более рассудительно и предсказуемо. Он сел на табурет у ног Василия Ивановича, долго теребил в руках председательскую свою кожаную кепку, гонял на скулах желваки, то впивался взглядом в лицо Василия Ивановича, то отводил глаза в сторону, в окно, как будто это именно он был повинен в том, что Василий Иванович попал в такую беду и переплет. Ведь мог бы и предвидеть подобную беду и подобный переплет, не пустить Василия Ивановича в город, задержать какой-нибудь срочной, неотложной работой. На то он и председатель, на то и руководитель, избранный сельским народом, чтоб все предвидеть и все предусмотреть. Наконец Анатолий Николаевич попридержал в руках кепку и сказал твердо, как всегда и говорил, когда внутри себя, после долгого обдумывания и сомнения, принял окончательное председательское решение:
- В милицию надо заявлять! Скорую вызвать!
- Какая там милиция?! - неожиданно вмешалась в разговор Анюта. - Приедут, водки напьются и никого не найдут.
И это была сущая правда, которую Анатолий Николаевич знал не хуже Анюты. Сколько раз, случалось, вызывал он милицию, когда обнаруживал пропажу, воровство (а без этого в последние годы не обходилось, чего тут скрываться, народу вольного, вороватого развелось хоть отбавляй, и своего, сельского, и городского, и приезжего, налетчиков и бандитов), и что же?! Действительно, приедут милиционеры-дознаватели, следователи, попьют водки до потери погон и околышков и с правыми, и с виновными, а большей частью со свидетелями, которые боятся их пуще правых и виноватых, да так ничего и не отыщут: следов, дескать, нет, доказательств и улик.
"Скорая", может, и приедет, а может, и нет. В районной больнице под это неотложно-спасательное дело определено всего пяток машин, латанных-перелатанных, напрочь побитых, они и по городу-то еле передвигаются, а уж в село по корявому, щербатому асфальту проникают и вовсе редко, бензин экономят, покрышки. Да и то сказать, деревенский человек - живучий, стойкий, своими подручными средствами привык обходиться, на Бога больше уповая, а не на "скорую помощь". В райбольнице это хорошо усвоили и едут в село только в крайнем случае, когда уж совсем помирает человек, и сколько раз бывало: приедут, а он уже на лавке лежит, и свечка в руках.
- Давай я тебя сам отвезу! - вызвался Анатолий Николаевич, зная все эти истории и предыстории. - "Газик" со мной.
- Куда ему ехать на "газике", - заупрямилась Анюта. - Ему лежать надо. Не пущу!
Василий Иванович слушал всю эту их перебранку, весь этот их консилиум с затаенной улыбкой, потому что наперед знал, как все будет. Он все ж таки пока живой человек и вправе распоряжаться своей жизнью по собственному замыслу и решению. А оно вызрело-созрело у него еще ночью, когда он пробирался домой то в полный человеческий рост, опираясь на подорожную лыжную палку, то в половинный, звериный, а то и правду совсем уже по-мересьевски, ползком, страшась лишь одного - упустить из виду неутомимого журавлика-черточку.
Улучив минуту, когда спорщики замолчали, сомневаясь, на что решиться, как быть с Василием Ивановичем, как определить горькую его судьбу и участь, он вдруг выдал им свой замысел:
- Давайте мы лучше устроим баню!
Все трое сразу осеклись, с недоумением посмотрели вначале на Василия Ивановича, потом друг на друга, должно быть, приняв тихие его слова за болезненное забытье. Анатолий Николаевич даже попробовал урезонить Василия Ивановича, угомонить:
- Какая там еще тебе баня?!
- Большая баня, русская! - настаивая на своем, пошел поперек его Василий Иванович.
А Анюта уже все поняла, загорелась: действительно, самое верное сейчас лечение Василию Ивановичу - баня. Дедовская их и прадедовская баня на две половины, мужскую и женскую, с чугунно-медным котлом, с паровозной почти топкой, с каменком-парилкой, с березовыми и дубовыми вениками, с осиновым столом-братиной в предбаннике.
Вот за эту понятливость и решимость и любил Василий Иванович Анюту. Он только еще о чем подумает, только помыслит, а она уже все схватывает на лету, все понимает по одному лишь взгляду Василия Ивановича без всякого приказа и понукая. Поняла и сейчас и готова уже баню растапливать, доставать веники, полотенца-утиральники, нательное белье, засомневалась, правда, на мгновение насчет котла: там ведь дырочка обнаружилась в спичку-карандаш величиной, как с ней быть, как затворить, заладить?! Василий Иванович тут же это сомнения Анютино и разрушил.
- Ребята, - поманил он к себе поближе Анатолия Николаевича и Лешку, - там дырочка в котле, в поддоне объявилась, надо бы заклепать.
И Анатолий Николаевич с Лешкой все свои колебания отбросили (Лешка, похоже, даже согласился отложить месть на завтра или послезавтра), вспыхнули, заговорились точно так же, как и Анюта, готовые сейчас выполнить любую просьбу-приказ Василия Ивановича, который иначе, понятно, не работник, лишь бы он поскорее поднялся на ноги, поздоровел, ожил. Василий Иванович порыв их и подвиг по достоинству оценил, одобрил, подсказал лишь:
- Там на полочке и заклепки лежат. Анюта покажет. Я заготовил.
Но эта подсказка была, наверное, уже и лишняя. Анатолий Николаевич и Лешка мужики с пониманием, с разумом: что они, заклепки не найдут, не спроворят?! Да они под этот момент новый котел в четыре руки отольют, склепают, новую баню срубят в "лапу", или в "ласточкин хвост", под черту и драчку, мхом болотным проложат и проконопатят, колодец новый выроют, воды в котел наносят и огнище такое под ним разведут, что за тысячи верст в небесах будет видать солнцеликое то зарево. И все с одной мыслью, с одним желанием, чтоб Василий Иванович как можно скорее помылся-попарился в обновленной бане и вышел из нее, как Емеля-лапотник из кипящего молока, добрым молодцем царь-царевичем, которого хоть сейчас под венец с Анютой.
- Лежи! - уже командовал, распоряжался Анатолий Николаевич, непоколебимо уверовав, что в этой счастливой мысли Василия Ивановича насчет русской большой бани и есть теперь для всех их одно, общее спасение.
Василий Иванович хотел было еще что-то подсказать ремонтникам о молотках-кувалдах, о водяном насосе и шланге, которые режет у него в мастерской за верстаком, но их уже и след простыл. Оно и ладно, Анюта сама им все подскажет, все объяснит: как шланг закинуть в колодец, а еще лучше бы в реку вперевес через кладку-мосточек, как запустить мотор, а Василию Ивановичу действительно надо сейчас полежать, понежить все свои боли и увечья, побороть обиды за вчерашний день, которые больней любых болей и ран острой занозой засели в его душе.
Он и лежал, подставив побитую голову и лицо, совсем какие-то чужие, отторженные от тела, тихому осеннему солнцу, тайно проникшему в окошко с смертному или почти уже смертному одру Василия Ивановича. Соглашаться, правда, с этой унылой его мыслью солнце никак не хотело, щекотало Василию Ивановичу глаза, веки, просвечивало острозаточенными своими лучиками, словно рентгеном, голову и утешало, поругивало добровольного смертника: рано ты собрался помирать - работы еще вон сколько недоделано, жизни еще вон сколько недожито, может, и десять лет, а может, и все двадцать. Под эти солнечные утешения и укоризны Василий Иванович даже стал незаметно задремывать, удерживая себя от полного провального сна лишь одним запоздалым сожалением, которого не успел высказать Анюте, чтоб она детям, Ксюше с Володей, а тем более Ване в Ленинград-Санкт-Петербург ничего не говорила, не писала, не названивала по телефону о его приключении. Если Бог как-нибудь помилует Василия Ивановича, возвратит к жизни, так он сам им и наговорит, и напишет, и прозвонит. Анюта же по материнской свое жалости может обронить и что-нибудь лишнее.
И вдруг Василий Иванович услышал первые удары молотка, доносящиеся от бани. Вначале они показались ему какими-то глухими и нестойкими, будто поминальными, но потом начали нарастать и нарастать, крепнуть и разноситься в звуке подлинным набатом, и ничего не было в них поминального, скорбного, а один лишь песенный призыв и повеление:
- Вставай, Василий Иванович, вставай! Не время помирать!
И он в то же мгновение сбросил с себя всю дремоту и полупровальный сон: нет уж, под такой набат и призыв Василий Иванович лежать на пуховой постели и добровольно готовиться к смерти не будет, не к лицу ему это и не к чести. Он дерзко, сколько позволяли побитые ребра, сгреб с груди одеяло, потом спустил с дивана ноги в тепло-шерстяных носках, а потом и сел.
Разнеженное в лежачем положении тело опасно хрустнуло костями и суставами, колыхнулось даже было назад на подушки, но Василий Иванович удержал его и грозно укорил за непослушание: "Ну еще чего!" И тело наладилось, окрепло и уже не клонилось ни назад, ни со стороны в сторону, а только рвалось вперед на набатные перезвоны-перестуки молотков. Потеплевшими ногами Василий Иванович нашарил под диваном войлочные тапочки, надел их, опробовал на полу, потом начал медленно вставать, опираясь на боковушку дивана. И ничего - встал! А коли встал, то надо было ему теперь одеваться в рабочую одежку и идти к мужикам: помощь не помощь, а хозяйский его глаз им пригодится.
Рабочую свою одежу Василий Иванович обнаружил на вешалке возле порога, куда добрался тоже в общем-то терпимо, всего с одной остановкой возле стола. Штаны и рубаху Василий Иванович надел почти что и проворно, хотя и пришлось присесть ему на табурет, как во времена радикулитных немощных страданий, а вот с сапогами дело не заладилось. Спина не гнулась, стонала, руки до голенищ едва-едва дотягивались, а про портянки, которые полагалось бы намотать поверх носков, и вообще говорить не приходилось.
Помучившись минуты две-три с увертливыми этими, все время норовящими завалиться на сторону, в лежку, сапогами, Василий Иванович оставил их в покое, хотя, конечно, и обидно было: штаны-рубаху надел, а с сапогами не справился. Нет, все-таки до Емели-царевича, до Елисея-королевича ему еще далеко. Но и в отчаяние от этой неудачи Василий Иванович не впал. Вместо сапог он легко, не наклоняясь даже к полу, не ломая спину, надел глубокие калоши-выступцы, бахилы, в которых обычно выходил в грязно-дождевую распутицу к сараям, когда долгой работы там не требовалось, а всего лишь минутная, получасовая: бросить корове сена, курам зерна, поросяте поставить кормовое корытце или взять какую-нибудь необходимую вещь, инструмент в мастерской, чтоб после управиться с ним в доме при тепле и свете. Тратить на такие краткосрочные выходы сапоги было жалко (только-только очистил возле крылечка о скобу) да и недосуг возиться с портянками. Нынче было и досуг, и не жалко (работа предстояла долгая и кропотливая), но сапоги не дались, словно предупреждая, что ни к какой работе Василий Иванович пока непригоден. Ну да ладно, не дались так и не дались: и калоши сгодятся, вон какие просторные и теплые, с соломенной стелькой-устелкой внутри (Анюта будто предвидела, что калоши Василию Ивановичу понадобятся, и положила в них новые стельки из золотисто-мягкий ржаной соломы). А насчет работы мы еще поглядим: ноги Василия Ивановича не шибко несут, а руки вроде бы действуют, да и голова кое-что соображает - не добили ее окончательно бандиты.
Рабочая телогрейка Василия Ивановича после вчерашних его походов к носке пока была непригодной. Анюта повесила ее сушиться на жердочке возле печи, надеясь после как-нибудь вернуть к употреблению, хотя, может быть, и стоило бы телогрейку вовсе выбросить, чтоб она лишний раз не напоминала Василию Ивановичу о рябиновой его, грозовой ночи. Но и то верно - выбросить всегда успеется. Вместо телогрейки Василий Иванович надел рабочий летний пиджак, а поверх него брезентовый непромокаемый плащ-дождевик. В солнечную нынешнюю предпокровскую погоду он был, конечно, ни к чему, не ко времени, но куда деваться - коль растратил настоящую одежу, ходи теперь в чем придется, действительно чучело, пугало огороднее. Шапку Василий Иванович надел кроличью обтерханную и тут уж загоревал не на шутку, вспомнил лисью, отороченную хвостом - вот уж потеря так потеря, вот уж огорчение так огорчение.
За дверь, на крылечко-веранду Василий Иванович вышел короткими, осторожными шажками, все время придерживаясь за косяки и притолоки, а на крылечке повеселел. Солнышко опять брызнуло ему в глаза живительным теплом и светом, а тут еще от бани доносились гулкие удары-перезвоны молотков Анатолия Николаевича и Лешки (на свежем воздухе и на широком просторе действительно набат и сполох!). Как не повеселеть?!
Василий Иванович подхватил в уголочке подорожную свою лыжную палочку и заторопился к бане шагами уже куда как пошире и потверже.
- Дзинь! Дон! - звенели в бане молотки.
- Ох! Ух! - тяжело, словно через силу отзывался на них чугунный котел, устав за последние годы от бездействия, пустоты и увечья.
- Ох! Ух! - вторил ему, вздыхал и увечный Василий Иванович, а на "дзинь-дон" сил у него пока не хватало.
И все-таки на огород он выбрался, хоть и слабый телом, но приободренный духом. Оглядевшись, хотел было сразу наладиться на тропинку к бане, но возле соломенных копешек не выдержал и, будто мальчишка какой, завернул за них - посмотреть, удостовериться, нет ли там журавлиных легких следов. И что ж ты думаешь - обнаружил. Среди множества галочьих, сорочьих и куриных (куры, бестолочь такая, хоть ты головы им отруби, обязательно выберутся со двора к копешкам пожировать недомолоченным каким зернышком в колоске) отличил какие-то совсем иные следы размером побольше, шагом пошире и принял их за журавлиные, решил - пусть будут журавлиные, хотя доподлинно журавлиных следов Василий Иванович и не знал. Птица это тайная, укромная, всегда на недоступных болотах скрывается, да и не живет она в их серединных местах, перелетом лишь бывает, откочевывая подальше - на север. Но как хотелось Василию Ивановичу, чтоб ночной журавушка-черточка сторожил его здесь до самого рассвета за копешками, переживал, тревожился, как, мол, неудачливый его попутчик: обретает ли жизнь, тепло и дыхание? И Василий Иванович без всякого сомнения укрепился в мысли: был тут журавушка, ходил в тревоге, вышагивал за копешками, ждал рассвета, когда пробудится Василий Иванович ото сна и обретенным этим дыханием, тихим взглядом даст ему знать - жив, не помер. Только после этого и улетел журавушка догонять своих сородичей, родительский курлычущий клинышек. И совсем уж удостоверился Василий Иванович, что именно так оно все и было, когда вдруг обнаружил возле копешки продолговатое атласно-нежное перышко, совсем не галочье, не сорочье и тем более не куриное, а, точно, журавлино-журавушкино. При разбеге и взлете специально обронил он его на память и дружбу Василию Ивановичу, мол, храни и береги его пуще хрустальной зеницы глаза. Прислонившись к копешке, Василий Иванович долго глядел на перышко, долго любовался им, а потом бережно спрятал в левый нагрудный карман пиджака: пусть греет и согревает это ангельское перышко возрождающуюся к жизни его душу и тело.
С журавлиным перышком на груди Василию Ивановичу стало совсем легко и уверенно, как будто минувшей лунно-зоревой ночью ничего опасного с ним и не случилось. Василий Иванович даже подорожной палочкой опирался через шаг, сбивал ею, озорничал, утреннюю росу и паутину запоздалого бабьего лета со стерни, густо проросшей травой тысячелистником и пастушьей сумкой. Но Анюта, завидев Василия Ивановича возле бани, только руками всплеснула:
- Да ты что, Вася?!
- А что? - совсем взбодрился Василий Иванович. - Гуляем! Анатолий Николаевич и Лешка, перестав на минуту стучать молотками, тоже пошли в подмогу Анюте:
- Да мы сами, лежал бы!
- Понятно, что сами, - вроде как поддался им Василий Иванович. - Но посмотреть охота.
Он присел в предбаннике на лавочке и действительно стал лишь смотреть и слушать, как Анатолий Николаевич и Лешка управляются с молотками, как Анюта ворошит на жердочке дубовые и березовые веники, но какое это было глядение, какое слушание, о том знал только один Василий Иванович, уже почти побывавший на том свете и вернувшийся назад, к теплу и солнцу, к родной дедовской баньке, к родным, во всем понимающим его людям. Ради этого возвращения, может, и помереть стоило...
Но нашлась работа и Василию Ивановичу. Вернее, не работа, а лишь совет его, без которого все ж таки ни Анатолий Николаевич, ни Лешка, ни Анюта обойтись не могли. Когда заклепали они злополучную дырочку, отряхнули от пыли веники и вздумали заполнять котел водой (для пробы пока - течет не течет), Василий Иванович объяснил, им, как лучше опустить шланг по вешкам и мосточку-кладочке в реку, как подключить водяной насос и вообще как обустраивать дедовскую вековую баню. Тут уж Василий Иванович главный был всему знаток и правильщик.
Раскинули шланг, подключились насосом и опробовали котел (молодцом, ребята, не течет, не промокает, нигде на поддоне ни капельки, ни росинки!) Анатолий Иванович с Лешкой всего в полчаса, а потом предстали перед Василием Ивановичем в предбаннике, словно перед царем каким, повелителем, сняли кепки-фуражки, стряхнули ими со лба и чела набежавший от молотобойной работы пот и задались вопросом, вопрошанием: что дальше? как быть и чему следовать?
- А дальше вот что, - не без усилия, но все же улыбнулся побитыми губами Василий Иванович, - ты, Лешка, заливай котел всклень и кочегарь, а ты, Анюта, и ты, Анатолий Николаевич, созывайте людей-гостей в баню.
И опять Анюта в единый миг, в единое дыхание во всем поняла и во всем одобрила Василия Ивановича. Все миром, всем сбором надо сойтись им в русскую дедовскую баню, смыть с тела и души всю вековую накипь и всю вековую усталость, всю кровь, тоже вековую, все слезы тысячелетние. Хотел Василий Иванович после великой хлебородной страды великого праздника, торжества, так оно только и может быть соборно, молитвенно и коленопреклонно. Горячие раны Василия Ивановича, горючие слезы его и обиды затянутся в этой очистительной купели, омытые живительной серебряноструйной водой.
- Вы идите, - напутствовал дальше Анатолия Николаевича и Анюту Василий Иванович, - а я посижу тут, при Лешке, погреюсь на солнышке.
- Погрейся, - помогла Василию Ивановичу выбраться из предбанника и усесться на лавочку Анюта, вся уже в дороге, вся в созыве и вся в тревоге (хозяйка все-таки, господня), как сложится, сладится праздник, все ли званные придут или, может, кто и погнушается, вспомнит старые обиды.
На пристенной лавочке, опираясь лопатками (хотя и болью отзывалось каждое прикосновение) о потемневшие, все в расщелинах бревна, сидеть Василию Ивановичу было и покойно, и тихо. Нет, это все-таки хорошо устроено в Божьем мире, что есть высоко в небе солнышко, горячее и такое всегда желанное, что под его лучами растет, вытыкается из земли любая, самая мелкая травинка, возносится дерево, плещется река, летит птица, ходит зверь, плавает рыба, живет человек: и всем есть место под ним, будьте только в ладу друг с другом, в мире и соучастии.
Пока Василий Иванович грелся на все выше и выше восходящем солнце, размышлял о правильном устройстве жизни, Лешка, кочегар кочегаром, колдовал и орудовал возле подкотельной топки: носил мимо Василия Ивановича березовые полешки из-под навеса, закидывал в широко раскрытый зев печки, складывал про запас штабельком, следил, прислушивался, как урчит насос, гонит по гибким шлангам из реки в котел воду. Но когда из трубы повалил первый, робкий еще дымок, Лешка оторвался от своих дел и подошел к Василию Ивановичу с обеспокоенным вопросом:
- Вам ничего не надо?
- Не надо, - улыбнулся ему Василий Иванович. - Присядь!
Лешка послушно присел рядышком, но не успокоился, а исподтишка поглядывал на Василия Ивановича, на его кровоподтечное, почти черное при свете яркого солнца лицо, опять возгорался негодованием против обидчиков своего учителя и наставника и опять с его уст готов был сорваться требовательный и во всем справедливый вопрос: "Кто?!" Василий Иванович чувствовал и почти соприкосновенно ощущал, как в не больно широкой груди Лешки клокочет и рвется наружу праведный гнев мстителя.
- Как Катерина? - пригасил этот гнев Василий Иванович. - Плачет?
- Плачет, - нескрываемо вздохнул Лешка.
- Это хорошо, что плачет, - похвалил Катерину Василий Иванович, вспомнив вдруг ночной свой разговор с Анатолием Николаевичем об Анюте, которая тоже, поди, плакала в беспокойной разлуке с ним во время жатвы.
Лешка сцепил между колен замком тяжелые для его мальчишеского тела руки, всегда натруженные, в задубелых мозолях и частых ссадинах. Трудно даже было представить, что вот этими грубыми, с детства так изработавшимися руками он берет нежную девчоночью ладошку Катерины, и что она безбоязненно отдает ее им, чуя в этой грубости и в этих мозолях особую, ни с чем не сравнимую мужскую ласку и преданность.
- Ты позови и Катерину, - подсказал Лешке Василий Иванович. - Пусть приходит.
Тот сразу вспыхнул, загорелся осенней рябиновой ягодой, может, по-юношески представил Катерину в горячем банном пару, будто в дымке. Оно и хорошо, что представил.
Задушевная беседа между Василием Ивановичем и Лешкой (не последняя ли уже перед расставанием, перед призывом Лешки в армию?), наверное, наладилась бы и дальше, потекла по наторенным извилинкам и канавкам. Уж что-что, а беседовать они с Лешкой умели и постоянно желали того и при ярких ночных звездах, и при ярком дневном солнышке, да и в любую иную погоду или непогодь. Побеседовать им было о чем, несмотря на столь заметную разницу в возрасте: о земле, об урожае, о машинах и механизмах, потом еще о Катерине и Анюте (тоже не обходили их стороной). Лешка перенимал у Василия Ивановича опыт, корневое, прочное понимание жизни, а Василий Иванович напитывался от Лешки молодого, гибкого ума, молодой силы, зоркого, не истраченного еще временем взгляда на новое обустройство и в селе, и в городе. Конечно, напоследок всего не переговоришь, всего не обсудишь, но вдруг вспомнится что-нибудь самое главное, чего они раньше не приметили, что упустили и не выговорили. А надо бы выговорить, сказать, иного раза у них уже может и не подвернуться. У Лешки сейчас пойдут трудные круговертно-колготные дни: застольные проводы, прощание с отцом-матерью, с Катериной, с друзьями, взаимные печали и слезы, не до Василия Ивановича ему будет.
Разговор этот непременно случился бы, но Лешка вдруг чутким ухом уловил в работе водяного насоса какие-то перебои, соколенком метнулся к нему, а потом в предбанник к печке, чтоб подкинуть в топку полешко-другое, и Василий Иванович не решился его останавливать. Даст Бог, они улучат еще минуту для главного своего разговора: или сегодня после бани, или на проводах, когда встанут из-за стола и выйдут на крылечко подышать свежим воздухом, или в самый последний миг, перед расставанием возле военкомата, когда прощально пожмут друг другу руки. Им-то и сказать надо, может, всего два слова. Но как выловить эти два заветных слова в памяти, как отличить среди множества других, необязательных, неглавных, - вот загадка и тайна.
Василий Иванович поднялся с лавочки и, думая над этой загадкой, тяжело вороша побитую свою память, пошел по тропинке к дому. Пусть Лешка тоже в одиночестве подумает над ними, не смущаясь увечным видом Василия Ивановича. Ему сейчас самое время подумать о главном...
В доме Василий Иванович хотел было опять прилечь на диван, чтоб передохнуть после дальнего похода к баньке (вот уж никогда не помышлял, что путь-дорога к ней через огород будет столь дальней и почти непреодолимой), набраться силы перед скорым помывочным праздником. Но уже снимая шапку и калоши, он вдруг остановил себя. Нет, отдыхать будем потом, после бани, а сейчас надо помочь Анюте и Анатолию Николаевичу, пойти тоже по людям, не по дальним, конечно (куда ему сейчас по дальним!), а по ближним, по соседям, которых Анюта и Анатолий Николаевич, поди, оставили на последнюю очередь, когда будут возвращаться назад.
Василий Иванович опять облачится в бахилы и шапку, приспособил к руке палочку и вышел-выковылял за калитку на улицу.
В первую очередь он пошел к левому своему соседу, Петру Наумовичу, старому, седобородому старику, ровеснику отца Василия Ивановича.
Петра Наумовича и востроносенькую его, юркую, будто курица, бабку Таню он обнаружил во дворе, при деле. Ухватисто и бодро они пилили на козлах дрова, заготовляли их на зиму. В какой иной момент Василий Иванович непременно подменил бы бабку Таню, помог бы по-соседски старикам. Но сегодня помощник из него был слабый, негодный, и Василий Иванович, совестясь этой своей негодности, лишь поздоровался с ними и застыл возле козел.
- Здорово! - ответил с придыханием дед Петро (не для него уже была эта лесопильная работа) и остановил вжикание пилы.
Бабка Таня тоже вскинула на Василия Ивановича глаза, тоже поздоровалась:
- Здравствуй, Василий Иванович, - и вдруг всплеснула в испуге руками: - кто это тебя так?!
- Люди, - немного помедлив, ответил Василий Иванович, как не раз уже отвечал сегодня на сочувственно-скорбный этот вопрос.
А дед Петро, старый вояка и герой войны, ничего не спросил: сам не раз бывал в переделках, поди, похуже, знает - нечего тут теребить раны, они и без того болят и ноют.
Василий Иванович воспользовался его молчанием и, склонив голову, сколь позволяла опухшая, негнущаяся шея, попросил старика и старуху:
- На праздник зову, в баню!
Дед Петро сразу оживился, находя возможность поскорее забыть хоть и сострадательные, но, на его характер, глупые, куриные вопросы бабки Тани:
- То-то я слышу, у тебя в баньке перезвон стоит. Котел клепали?
- Котел! - охотно ответил Василий Иванович, радуясь и тому, что котел наконец починился, и тому, что дед Петро так сразу его во всем понял, загородил от состраданий бабки Тани.
- Дровишек не надо? - опираясь на пилу, словно на цепок, увел еще дальше от опасных разговоров участливую бабку Таню такой понятливый во всем и такой надежный сосед Василия Ивановича, с которым полжизни двор в двор, огород в огород прожили его отец с матерью, а он сам так и всю жизнь от самого дня рождения и вот тоже уже до седых волос и старости. Дал бы Бог всем людям жить так вот во взаимной выручке и поддержке, как живут они с дедом Петром и бабкой Таней.
- Нет, не надо, - поблагодарил стариков Василий Иванович. - Своих с запасом.
- Ну гляди, - ответил дед Петро, хитро тая в пепельно-белой бороде улыбку. - А то могу подсобить.
Василий Иванович лишь вздохнул. Уж кто-кто, а дед Петро по-соседски знал, что нерадением своим запустил он баню, довел ее до полного упадка, и вот результат: в городском "Аква-Посейдоне" чуть не убили его до смерти. Так и поделом! Храни и береги пуще глаза то, что досталось тебе от отца, деда и прадеда, не зарься на чужое и совсем тебе ненужное.
И все-таки походом к деду Петру и бабке Тане Василий Иванович остался во всем доволен. Пусть посокрушались они (кому ж в беде не по сердцу участие?), пусть и укорили (кому ж укор не в пользу и покаяние?), а душа окрепла, возликовала: человеком он опять себя почувствовал, а не чучелом, как в проклятом этом "Аква-Посейдоне".
Еще раз преклонив перед стариками голову, еще раз пригласив их в баню, будто на свадьбу, на крестины или на престольный, храмовой праздник (и получив согласие), Василий Иванович, бодрясь всем телом, торжествуя всей душой, пошел через дорогу к другому своему соседу, Игнату Лукичу, потом к третьему, Кузьме Федотовичу, потом к третьему, деду Павленко, потом к бабке Федосье и так до самой реки, до церкви и школы. И всюду его встречали (тут уж куда деться!) встревоженным и участливым вопросом:
- Кто это тебя так, Василий Иванович, и за что?
И всегда он уже заученно, но всегда честно отвечал:
- Люди! Кто же еще?
А за что и про что - это одному только Богу ведомо.
Когда же Василий Иванович стал возвращаться домой, то еще издалека приметил возле своего двора подводу. Доподлинно не узнавая полуслепыми глазами седока, он сразу узнал (и сердце у него вздрогнуло), чья это подвода. Да и как было не узнать! Сколько помнит себя Василий Иванович, такой вот рябой (красное с белым) конек был во всей округе только у одного-единого человека - у Зямы-галантерейщика, а теперь по бедности еврейского раввина. Нынешний конек, конечно, уже не первого, не второго и даже не третьего и не четвертого поколения (отец покойный рассказывал Василию Ивановичу, что еще до войны был у Зямы подобный конек). Похоже, пращуры его перекочевали вместе с евреями сюда, в серединную Россию из Польши, а в Польшу из Палестины, из Земли обетованной. Как продолжался и хранился их род, никому не известно, но как только старый, немощный уже конек, на котором Зяма доставлял из базы в галантерейную свою лавочку товары, а в базарные дни, четверг и воскресенье, отправлялся на выездную торговлю, начинал терять силы, путаться ногами, через каждые десять метров приставал в дороге, Зяма менял его на точно такого же пестро-рябого (красное с белым), но молодого и резвого, настоящего скакуна и трудового безотказного возчика. Рядом с ним молодел и сам Зяма, креп голосом, заводил новый картуз и любого и каждого посетителя галантерейной нескудеющей лавочки встречал заинтересованным цепким вопросом:
- Что вы хотели?
Хотели многого, и особенно женщины, главные его покупательницы. И все у Зямы было: рябой неунывающий конек, верная помощница Сара, галантерейная лавочка и галантерейный павильон на базаре, а в них все, что твоей душе угодно. Нитки и иголки любых номеров и размеров (в том числе и патефонные, самые дефицитные), резинки, булавки, шпильки, наперстки, всяких сортов материал, от сукна до крепдешина и шелка, мужские картузы, кепки-восьмиклинки, шапки и шляпы, женские ридикюли, опять же, дамские шляпы и шляпки (заметьте, летние и демисезонные) и т. д. и т. п. И это только на виду, на прилавках и многочисленных полочках, а что у Зямы под прилавком и в подсобке, то покрыто тайной и завесок, о том и сам Зяма иной раз, говорят, не знал.
Но нынешний рябой конек, похоже, у Зямы последний, хотя и не старого он еще возраста. По человеческим меркам, лет двадцать пять ему, тридцать, в самой поре и силе. Но совсем старый и ветхий, как "Ветхий завет", Зяма (давно ему, ох, как давно за восемьдесят!) и конька этого он уже не переживет...
В своем узнавании Василий Иванович не ошибся. Конек, уныло стоящий возле его подворья (сердце у Василия Ивановича опять нехорошо вздрогнуло) был действительно Зямин (чей же еще мог бы быть?!). Чем ближе подходил Василий Иванович к подводе, тем узнавание это становилось все определенней и определенней: знаком был Василию Ивановичу и легоньки, на железном ходу возок, и упряжь, старенькая, но всегда ухоженная (понятное дело, свое, не колхозное), хомут, гужи, чересседельник, ременные вожжи, подпруги на латунной узорчатой пряжке (только у Зямы теперь такая и осталась); хвост у конька к зиме обрезан высоко (мухи и комары уже вывелись), так их тоже никто колхозно-артельным коням не обрезает, зимой и летом ходят обросшие, длинногривые и длиннохвостые, полудикие.
Зяму Василий Иванович обнаружил в тени подводы на призаборной лавочке. Сидел он, низко, почти к самой земле обронив худые, все в старческих родимых пятнах руки и еще ниже обронив голову в черной широкополой шляпе, которую завел себе с тех пор, как превратился из галантерейщика в раввина.
- Здравствуйте, Зиновий Сидорович! - обходя подводу, негромко поздоровался с ним Василий Иванович, и сердце совсем у него обмерло - нет, не зря приехал к нему под сегодняшний день Зяма.
- Здравствуй, Василек! (он его вслед за Соломоном Яковлевичем звал Васильком), - тяжело, будто чугунную, поднял голову Зяма, и даже не столько голову, сколько одну лишь чугунно-черную шляпу и скрипучим, тихо-упавшим голосом подтвердил все предчувствия Василия Ивановича. - С плохими я к тебе вестями.
- Какими? - минуту потомил и себя, и его молчанием Василий Иванович, стараясь хоть на малый срок оттянуть эти известия.
- Соломон умер, - не пощадил его раввин Зяма.
- Когда? - едва сдержал в груди побитое, все в ссадинах и кровоподтеках сердце Василий Иванович.
- Вчера пополудни, - опять склонил к земле чугунную голову тот. - Вышел посидеть на крылечке - и умер. Теперь лежит в морге, в пещерке, дожидается, когда заберут в Землю обетованную.
- А что, все-таки заберут? - с трудом удерживая палочкой свое израненное, ослабевшее вдруг во всех частях тело, переспросил Василий Иванович.
- Заберут, - и во второй раз не пощадил, не поберег его Зяма. - Сыновья уже в дороге, - и вдруг заплакал тяжелыми стариковскими слезами: - Ах, Соломон, обманул, не уважил, умер вперед меня...
Утешать Зяму Василий Иванович не стал. Да и как можно было утешить, какими словами и какими заговорами, ветхозаветного этого, последнего в их чудо-городке еврея, который теперь сам себе и прихожанин и раввин. Пусть поплачет...
И тот действительно плакал долго и безутешно, как только может плакать человек, переживший всех своих сверстников, всех людей своего возраста, понимания и племени и теперь остающийся в чужом и непонятном ему молодом мире. Не дай Бог никому обрести такую тоску и отчаяние!
Плакал и Зямин конек. По крайней мере, Василию Ивановичу так показалось в полуслепом своем положении. Крупные, величиной с вишню слезы одна за другой выкатились из бело-коричневого лошадиного глаза и упали на осеннюю холодную землю. Изредка конек поворачивал голову к Зяме, и тогда Василий Иванович безошибочно видел в широко раскрытых этих глазах, что оплакивает он не столько покойного Соломона Яковлевича, которого, конечно, знал и любил, сколько своего черно-печального и одеянием, и душой хозяина. Но какие молодые это были и живительные слезы! Казалось, сейчас на том месте, где они упали, вырастет из земли, несмотря на предзимнюю пору, вишенка, выкинет листочки и рясно зацветет белокипенным цветом, оденется в подвенечные свои белые одежды, не знающая еще никакой печали. А может, и не вишенка, может, голубенький цветок-колокольчик, или желтый лютик, или красный королек, или простодушные многоцветные анютины-глазки. Знал бы то старый Зяма, не плакал бы, не печалился бы, а радовался бы молодой, обновляющейся жизни.
Он и вправду перестал плакать. Насухо вытер глаза веснушчатыми своими кулаками-ладонями, а потом вдруг поднялся с лавочки и сказал Василию Ивановичу уже твердым и привычным голосом, которым когда-то зазывал покупателей в галантерейную лавочку, а теперь читал еврейские тайные молитвы.
- Я тебе подарок от Соломона привез. Завещание.
Василий Иванович поостерегся спрашивать Зяму, какой это подарок, какое это завещание, а стал терпеливо ждать, пока тот достанет его из кармана длиннополого черного плаща.
И вот Зяма достал его, подарок и завещание, бережно (чувствовалось, еще самым Соломоном Яковлевичем) замотанное в белый чистый лоскутик и перевязанный ниткой. Еще не разрывая нитку и не разворачивая лоскутик, Василий Иванович сразу догадался и понял, что это за подарок и какое это ему завещание от Соломона Яковлевича. В том лоскутике хранилась запрятанная в твердо-кожаный футляр зингеровская трофейная бритва Соломона Яковлевича, единственное его обретение в войну. Ничего ценнее у Соломона Яковлевича не было в жизни. Бритва эта почти шестьдесят лет кормила и поила его, обустраивала в жизни, учила неразумных детей-сыновей разуму. И научила: теперь они мчатся на быстрокрылом самолете через моря и пустыни к мертвому, заточенному в пещерку отцу, чтоб забрать, выхватить его оттуда и унести на стальных этих крыльях из страны родной в страну обетованную.
Точно так же, как и рябых Зяминых лошадок, Василий Иванович помнит бритву Соломона Яковлевича с детства. Не всякого и не каждого клиента брил, обихаживал трофейной своей заветной бритвой Соломон Яковлевич, берег ее только для людей самых достопочтимых, преданных ему и верных, которые готовы были сидеть в очереди хоть полдня, лишь бы попасть в руки и кресло к Соломону Яковлевичу, под неисточимо-острую его бритву. Но Василька, будущего Василия Ивановича, он уважил с самого первого раза, испробовал и еще нетвердую в парикмахерском искусстве руку, и немецкий, зингеровской выделки бритву на тоненькой его, почти младенческой шейке и на худеньких височках-заушьях, предварительно спросив, как у взрослого, чинного мужчины: "Прямые или косые?" Шею Васильку подбрил, подравнял "скобочкой", а височки обозначил по подсказке бдительного отца прямые, пионерские. Василий Иванович до сих пор помнит первый тот стальной холодок у себя и на шее, и на висках, помнит частое дыхание Соломона Яковлевича, ласковые его слова, от которых голова у онемевшего Василька плыла и кружилась, словно в высоком каком, птичьем полете. Помнит Василий Иванович эту бритву и уже в более поздние времена, когда она неслышимо скользила от юношеского его окрепшего виска по щекам и подбородку, как искусно равняла пышно-густые усы, которые Василий Иванович завел на последнем году морской службы для мужества и отваги и которые носил долго и на гражданке, пока они не стали покрываться снежной, метельной изморозью.
По всем правилам и наследствам полагалось бы Соломону Яковлевичу завещать дорогую его сердцу бритву, реликвию и талисман, добытый в честном смертельном бою, сыновьям. Пусть бы берегли память об отце, передавали ее из поколения в поколение, чтоб память эта никогда не угасла и не истерлась. Но вот же, передал Соломон Яковлевич самое ценное и ценимое, что было у него в жизни, Василию Ивановичу, завещал ему хранить и беречь, как частичку самого себя. И было видно и во всем догадливо, зачем и почему так сделал Соломон Яковлевич. Хотел он и желал всем сердцем, чтоб память о нем осталась здесь, в русской черноземной земле, которая от веку была для него Землей и родной, и обетованной.
- Поклонитесь ему, - принимая подарок, вздохнул всей искалеченной грудью Василий Иванович. - Скажите, помню и не забуду!
Руки Зямы мелко старчески задрожали, как будто не хотелось ему отдавать завернутое в белый печальный лоскутик и бережно перевязанное ниткой завещание друга своего и великого мастера Василию Ивановичу, как будто он опасался и в последний раз задумывался, а верно ли по смерти поступает Соломон. И все же отдал, не посмел нарушить воли покойного, сам уже давно готовый уйти вслед за ним (и много раньше его) в подземные безвозвратные пещеры, последний в округе еврей, последний прихожанин и раввин в опустевшей синагоге.
И только когда беломраморный, словно поминальный сверточек оказался в руках у Василия Ивановича, Зяма поднял на него подслеповатые свои выцветшие от древности глаза и спросил о том, о чем спрашивал сегодня Василия Ивановича всякий и каждый:
- Кто это тебя так, Василек?
Мгновение Василий Иванович помолчал, набираясь решимости произнести горестный свой, выстраданный за всю побойную ночь ответ, но многоумный Зяма вдруг перебил его и добавил еще два слова, которые только и мог добавить старый, испытанный временем и страданиями еврей:
- Свои или чужие?
- И свои, и чужие! - тоже чуть отличимо от прежних ответов отозвался Василий Иванович.
Зяма отзыв его принял, как принимают покаяние, когда одна душа очищается, а другая берет на себя все грехи кающегося, отпускает их именем Бога, чтоб самой после страдать под тяжестью этих грехов. Худенький, тщедушный Зяма, галантерейщик и еврейский раввин, доживающий последние страдальческие дни, добровольно и безропотно принял на себя все неискупимые грехи и "своих", и "чужих". Для немощного его, иссушенного тела они были совсем уже неподъемными, Зяма гнулся под их тяжестью всей спиной и грудью и, казалось, вот-вот упадет на землю. Но душа его была крепкой и чистой, все впитывала в себя и все выносила.
- Не держи на них зла, - молитвенно произнес он и опять едва не заплакал.
Как хотелось Василию Ивановичу порадовать старого Зяму, облегчить непомерные его страдания, взять и на себя часть доставшихся ему грехов, сказать с облегчением сердца: "Да я и не держу", но то было бы великим обманом и великой неправдой: ни душой, ни избитым до полусмерти телом не был Василий Иванович пока еще готов к таким словам и таким прощениям.
Он опять замолчал, не в силах побороть самого себя (и кажется, Зяма все понял и не стал торопить Василия Ивановича, пусть ответ вызреет в его душе и окрепнет, чтоб произнестись без всякого на то принуждения), а потом вдруг, будто проснулся и заговорил с большим напором и неотказной просьбой, на которые в любой иной момент был неспособен:
- Праздник у нас сегодня, Большая баня - оставайтесь!
- Нет, не останусь, - все-таки отказался Зяма. - Спасибо. Мне к Соломону надо. Хоть последние часы побудем вместе.
И так он это сказал, так безотрадно, так предсмертно закачал со стороны в сторону совсем отяжелевшей, по-неземному уже черной головой, что Василий Иванович настаивать на своей просьбе не посмел.
- Прощай, Василек! - сказал ему Зяма, бережно, лишь кончиками пальцев прикоснулся к зажатому в руке Василия Ивановича поминально-белому свертку, и вдруг лицо его озарилось такой счастливой улыбкой, которые бывают только во сне у младенцев, когда им чудится недавняя безмятежная жизнь (уже жизнь!) в материнском лоне.
- Прощайте! - поддался его улыбке Василий Иванович, хотя ответить надо было бы совсем по-иному, по-обыденному: "До свидания!"
Но теперь что ж, теперь уже переиначивать было поздно. Зяма повернулся к рябому своему коньку, отвязал захлестнутые за штакетину вожжи и неловко, в два приема, опираясь на ступицу, взобрался в передок телеги. Конек стронулся с места сам по себе, без всякого понукания и окрика, приученный к такому взаимопониманию с хозяином за долгие годы службы. Вначале он шел укороченным, разминочным шагом, еще только приноравливаясь к движению, а потом незаметно как-то устремился на бег, на широкую разгонистую рысь, зазвенел удилами; высоко поднимая голову, заржал, засмеялся и все набирал и набирал ходу. Василий Иванович невольно залюбовался его легким, стремительным бегом, его смехом-ржанием, перезвоном посеребренной уздечки, гулкими ударами копыт, никогда не знавшими подков, которыми выстукивал, выговаривал за каждым шагом, что так бегут не навстречу смерти, а навстречу молодой, обновленной жизни...
С зажатым в руке белым сверточком, неоценимым подарком и завещанием Соломона Яковлевича Василий Иванович зашел в дом и поначалу хотел было его спрятать в заветный ящичек стола, где у них с Анютой хранились документы и фотографии (ничего крепче береженого в доме и не было), а самому все ж таки прилечь на диван, потому как ходьба по соседям, вопросильные разговоры с ними дались Василию Ивановичу с трудом и стенаниями, а свидание с Зямой и вовсе обескровило его. Надо было в тишине и покое полежать хотя бы полчасика, принять в себя и пережить страшное известие о Соломоне Яковлевиче, который в побойный час Василия Ивановича, словно по Божьей подсказке, заступил его собой, принял смерть от невидимого удара под самое сердце.
Но не сдержался Василий Иванович, развязал на свертке ниточку и высвободил на свет Божий бритву, которую Соломон Яковлевич прощально запеленал в белый лоскутик. Она блеснула на солнце стальным остро отточенным лезвием, прочно легла в ладонь деревянной (дерева бука) ручкой-черенком, как шестьдесят лет подряд ежедневно ложилась в ладонь Соломона Яковлевича. На ней хранились неизгладимые следы его пальцев, незаметные ложбинки и выемки, наполненные живительным теплом. Оно передавалось Василию Ивановичу из пальцев Соломона Яковлевича в его израненные и искореженные пальцы, из ладони в ладонь и поманило солнечным блескучим зайчиком к крохотному зеркальцу на подоконнике, возле которого Василий Иванович всегда брился. Еще минуту тому назад он и подумать не смел, чтоб прикоснуться к опухшему своему, в кровоподтеках и кровавых ссадинах паутинкой, так оно все болело и изнемогало. Но сейчас вдруг загорелся, вдруг загодя еще пересилил в себе и всю боль, и все отчуждение и начал священнодействовать на подоконнике. Достал из печи чугунок с горячей водой, наполнил им натру четверти вначале высокий алюминиевый стаканчик, а потом низкорослую мисочку-плошку. Истершийся, истончившийся почти до самого черенка за многие годы верной службы помазок, словно сам собой, подвернулся Василию Ивановичу под руки. Он взбил им в плошке белопенный мыльный раствор и принялся густо и победно намазывать им щеки и подбородок, во всем стараясь повторять движения Соломона Яковлевича (уж он это умел так умел!). Все лицевые ссадины и увечья скрылись под воздушно-кипенной пеной, и Василию Ивановичу уже не так страшно и отвратно было смотреть на самого себя в зеркале. Пугали только глаза, черные в окружьях, почти неразличимые, с рассеченными бровями и вспученными веками. Но это можно было и перетерпеть. Главное, глаза, хоть и подслеповато, а видят, и не только сами себя в зеркале, но и весь Божий свет, весь Божий мир, который для Василия Ивановича так вот в одну ночь помутился было и пал в преисподнюю.
Теперь Василию Ивановичу полагалось бы навести лезвие бритвы о широкий свой морской ремень, всегда висевший для этой надобности на специальном гвоздике за наличником. Василий Иванович и потянулся к нему, но ухватил рукой лишь пустой воздух: не было там больше морского его ремня, четыре года так туго опоясывавшего гибкое молодое тело Василия Ивановича в подводных походах и наземных гуляниях, а после всю жизнь при любой самой тяжелой и неподъемной крестьянской работе державшим его на строгой, несменяемой вахте.
Первое движение бритвой от виска по скуле и ниже далось Василию Ивановичу все же с преодолением, и не столько от ожидаемой боли, сколько оттого, что рука его плохо слушалась, дрожала, и он опасался, как бы к прежним побойным увечьям и ранам не нанести новых, как бы не порезаться глубоко, до самой кости, острее острого без всякой даже правки на ремне опасной бритвой Соломона Яковлевича (на то она и зовется "опасной"). Но как раз бритва и выручила Василия Ивановича, скользила по щеке легко и неранима, обходя, где надо, побитые, болезненные места, а где надо, неощутимо снимая запекшиеся кровавые струпья.
И Василию Ивановичу вдруг почудилось, что это не он сам справляется с фронтовой зингеровской бритвой, а Соломон Яковлевич незримо водит дрожащей, ослабленной его рукой. Василий Иванович слышал у себя за спиной частые шаги-переступы Соломона Яковлевича (всегда обутого в лаковые невесомые туфли), ощущал его размеренное, успокаивающее дыхание; впитывал полной грудью, не чувствуя при этом никакой боли и неудобства внутри, ни с чем не сравнимый запах послевоенного одеколона "Красная Москва", который всегда исходил от Соломона Яковлевича. Голова у Василия Ивановича от волшебных движений и заговоров Соломона Яковлевича, от целебного запаха одеколона кружилась, плыла, как плыла она и кружилась лишь давным-давно, в детстве, когда Василий Иванович был всего лишь Васильком, а Соломон Яковлевич недавно только демобилизованным из армии фронтовым офицером. И докружилась до того, что Василию Ивановичу совсем уж явственно послышался голос-вопрос Соломона Яковлевича, который тот всегда задавал ему (часто с легкой насмешкой и подначкой): "Усы оставлять будем?"
- Будем! - решительно ответил Василий Иванович и действительно двумя-тремя взмахами бритвы обозначил над верхней незаживаемо-побитой, рассеченной и обезображенной губой широкие щетинистые усы. Пусть они, конечно, теперь уже и седым-седые и даже немного вислые, но все же бывшему моряку-подводнику (впрочем, бывших моряков не бывает, они моряки навсегда, довечно), да еще побывавшему в такой ночной переделке, без усов не годится, они для него гордость, отвага и мужество. А без гордости и мужества доподлинного человека не бывает, ни морского, ни сухопутного, поломойная тряпка одна, измочаленная и никому не нужная ветошь. Была у Василия Ивановича и еще одна горделивая мысль насчет усов. То-то Анюта удивится, обнаружив их, то-то обрадуется его обновлению, и может быть, не столько тела, сколько души. Тело его почти что и убили, растерзали, а вот душа, оказывается, жива.
Анюта и вправду удивилась. Войдя в дом, остановилась у порога, долго глядела на его помолодевшее, хотя все равно, конечно, безобразно-отечное лицо, на седые, посеребренные усы - и сразу поняла, что не зря он их обозначил-завел, что знак в том добрый, к выздоровлению и крепости духа. Но не ускользнуло от Анюты и другое. Не могла не приметить она, что бреется Василий Иванович, обозначает себе усы не своей привычной бритвой, которая знакома Анюте вот уже без малого сорок лет (она тоже не раз брала ее в руки, подбривая Василию Ивановичу затылок), а какой-то чужой, незнаемой. И сразу встал перед Василием Ивановичем вопрос, говорить Анюте всю правду о Соломоне Яковлевиче или повременить, скрыть ее хотя бы до вечера, до окончания праздника. Пусть поживет в неведении, в покое и счастье после такой тяжелой для нее, почти непереживаемой ночи.
Но от Анюты ничего не укроешь, ничего не утаишь.
- Откуда это? - указала она рукой на бритву.
- От Соломона Яковлевича, - стараясь не выдать Анюте правды, склонился как можно ниже к зеркалу Василий Иванович.
Обман ему почти удался. Анюта замолчала, должно быть, решив, что Соломон Яковлевич вчера по доброте своей и давней привязанности к Василию Ивановичу подарил ему старенькую зингеровскую бритву, которой сам уже не бреется и не бреет клиентов, и она чудом сохранилась в роковую ночь у Василия Ивановича. Но потом, еще раз взглянув на его угнетенное, слившееся с зеркалом лицо, обо всем догадалась. Не могла не догадаться: вытряхивая поутру телогрейку и вывешивая ее сушиться возле печки, никакой бритвы она в карманах не обнаружила, а других карманов у Василия Ивановича и не было - в одни подштанниках пришел.
- Умер?
- Умер, - дрогнула в руке Василия Ивановича бритва, и он едва не порезался ею широко, вкось подбородка.
Теперь Анюта замолчала совсем уже по-другому, присела на табурет в торце стола, обронила на подол руки и вдруг тяжело закачала головой, и никак нельзя было понять, то ли это она так бесследно, каменея душой, плачет, то ли поняла все до последней капельки, что умер Соломон Яковлевич, ушел в подземную пещерку, заслонив собой Василия Ивановича.
Так они и сидели в безмолвном молчании друг против друга: Анюта, не роняя ни единой слезинки, плакала, страдала и скорбела душой (что ж это творится, что ж это деется в мире среди людей?!), как будто наверстывая все не выплаканное утром по Василию Ивановичу. Сам же он крепился, как мог, молчал и давал себе зарок молчать хотя бы до вечера, не выдать Анюте, что не приюта Соломону Яковлевичу на родной земле, что заберут его завтра или послезавтра в Землю обетованную, и никогда им с Анютой не доведется навестить могилу Соломона Яковлевича с надгробным высоким камнем на еврейском угасающем кладбище.
Тишина в доме установилась поминальная, надмирная. Солнечный лучик косо проник в окно, скользнул по зеркалу Василия Ивановича и зажег, воспламенил на стене лампадку, подлинную свечечку с ярко горящим пламенем.
Василий Иванович и Анюта с изумлением глядели на него, зримо видели и ощущали его трепет, его колебание, его порыв подняться все выше и выше. Он, наверное, и поднялся бы, пересек бы земную черту, чтоб навсегда, навеки уйти в небо, но в эту минуту вдруг возле дома взвизгнула тормозами машина; Василий Иванович неосторожно затронул зеркало, и солнечный лучик, лампадка и свечечка погасли, словно ушли в землю и до поры до времени там затаились. Затаиться им было отчего: широко распахнув калитку, в дом бежала, почему-то держа на руках маленькую испуганную Аню, Ксюша. Все-таки сама собой дошла до них весть (а может, и Анюта не выдержала, позвонила) об отцовском несчастье, и вот теперь Ксюша, охранно зажав на руках Анечку, с тревогой в сердце бежит в дом, не зная, жив еще отец или уже нет его - и все солнечные лучики, все солнечные зайчики, лампадки и свечечки расступаются перед ней, чтоб она поскорее воочию увидела, что жив пока, и они горят-воспламеняются совсем не по нему.
Возле порога Ксюша поставила Анечку на ноги, но не отпустила от себя, а крепко по-матерински прижала к телу и заплакала. Да как счастливо, как неостановимо и безудержно заплакала, и не могла заплакать по-другому: ведь думала и ожидала увидеть отца мертвого, бездыханно лежащего на лавке, а он жив, сидит, бреется возле зеркала, как брился на ее памяти десятки и сотни раз. Когда же наплакалась, нарыдалась вволю, кинулась к Василию Ивановичу, обняла, обвила его за плечи и стала целовать увечное, изуродованное и недобритое отцовское лицо, как целовала только в самом раннем младенческом детстве. А в промежутках между этими целованиями, между высыхающими слезами, между ласками, которых в девичестве и во взрослой замужней жизни по строгому своему характеру всегда стеснялась, повторяла одни и те же вымученные, выстраданные слова:
- А нам сказали - убили!
- Да нет, жив, - тоже ласкал, гладил Ксюшу по волосам, по заплаканному сухими слезами лицу Василий Иванович и уже ничуть не стыдился перед дочерью своего избитого до неузнавания лица.
Маленькая Анечка все это время жалась к матери, куталась в подол ее платья, ничего не понимая в случившемся, а потом вдруг поняла и засмеялась:
- Дедушка, а почему ты такой страшный? Как волк!
И вслед за ней, разумным ребенком-цветочком, рассмеялись и все остальные. И опять же, как счастливо, как неподдельно, как от всей души, вначале, правда, еще вполсмеха, вполголоса, а потом все громче и все заливистей, отстраняя отрадным этим смехом только что пережитые страхи.
На самой вершинке смеха-ликования застал их Сережа. Он вошел в дом по-мальчишески размашисто и смело (та еще порода, дедовская, - законно возгордился им Василий Иванович), застыл на минуту у порога, пытаясь догадаться, почему это все и зачем смеются, когда дедушка вон какой весь израненный и черный, но спрашивать ни у кого о беспричинном смехе не посчитал за нужное, а пробрался мимо матери и веселящейся, прямо-таки пританцовывающей от радости сестренки к Василию Ивановичу, встал перед ним крепким, каменным орешком, некачаемым столбиком, этакий Покати-Горошек, и вдруг сказал отчетливо и ясно:
- Меня тоже били!
- Ну и как? - не прерываясь в смехе, спросил его Василий Иванович.
- Я сдачи дал! - гордо ответил Сережа.
Упрямые эти, твердые слова хорошо расслышали и Анюта, и Ксюша, и маленькая Анечка (расслышала и очаровалась храбрым свои братцем), мгновение помолчали, а потом зашлись новым, еще более неудержимым приступом смеха, когда он уже вышибает счастливые льющиеся ручьями слезы. Засмеялся наконец и сам Сережа, но не так счастливо, как женщины, а сдержанно и настороженно, думая, наверное, что смеются над ним, над его невпопад сказанными словами, хотя чего ж тут невпопад, когда все правда: пробовали Сережу бить в школе хулиганистые его ровесники (и даже ребята много старше, а все из-за Танечки Заволошиной из 5 "В" класса, с которой Сережа все время по дороге, хоть в школу, на уроки, хоть домой), но он от хулиганов-обидчиков оборонился (оборонил и Танечку), дал им сдачи. Теперь Сережа по твердому своему характеру хотел оборониться и от насмешливых женщин, матери, бабушки и сестренки, оборонить и дедушку, над которым они смеялись, может быть, и больше, чем над ним самим, но не успел - на пороге появился его отец, высокий, статный, сразу видно, что директор школы, не Володька, как привык его в глаза и за глаза называть по-родственному Василий Иванович, а Владимир Александрович. Чувствовалось, что он сорвался в дорогу по тревоге, прямо из школы, прямо из школы, может, даже и с урока, не дождавшись переменки. Володька был при кожаной добротной куртке, при такой же кожаной кепке, при белой рубашке и галстуке, но в глазах его читались тревога и испуг за тестя: мужик он был нормальный, свойский, хоть и начальник.
При виде Володьки женщины сразу умолки, обереглись смеяться, и он, не вдаваясь в причину этого совсем неурочного смеха, не выведывая ее, в мгновение ока оценил обстановку и сказал точь-в-точь словами Анатолия Николаевича:
- Милицию надо называть. У меня там зам начальника знакомый!
И тут вдруг взорвалась Анюта. Но не гневно, не пристрастно, а как бы вовлекая и Володьку в веселое, прозрачное настроение:
- Да что вы все заладили: в милицию, в милицию! В баню сейчас пойдем!
Володька, мужик догадливый, к теще всегда льнущий, как и полагается любимому зятю, больше, чем к тестю, призывные слова Анюты оценил, во всем их принял, оценил и смех (раз смеются, значит, есть тому причина) и тоже загорелся:
- А что, в баню - это хорошо!
Он прямо на глазах, в одну секунду, в один поворот вдруг переменился из строгого начальника, директора в обыкновенного молодого еще парня, из Владимира Александровича в Володьку. Кожаная его куртка, кепка и синий умело завязанный галстук вмиг потеряли всякое значение и уже гляделись на нем как-то случайно, будто с чужого плеча.
- Готовь тельняшку! - поддерживая всеобщий восторг и суматоху, возникшие в доме, потребовал от Анюты Василий Иванович.
- Да готова давно! - весело и легко отозвалась Анюта и тут же выложила на стол перед Василием Ивановичем новым-новехонькую (хранила, видимо, а заначке), ни разу еще не надеванную полосато-синюю тельняшку.
Нет, шалишь, брат, просто так, ни про что ни за что, нас не добьешь, не осилишь! Мы при такой тельняшке и таком родовом народе десять раз из земли вылезем и только крепче да злее будем!
Конечно, Василию Ивановичу полагалось бы еще и постричься. Анюта, если хорошенько ее попросить, запросто может обкорнать его не хуже любого цирюльника (разве что один только Соломон Яковлевич был выше ее), но, во-первых, куда же такую бедовую голову, всю в ссадинах, кровоподтеках и струпьях, стричь, ее надо вначале привести в какой-никакой порядок, вымыть, выполоскать, расчесать костяным гребнем. А во-вторых, просто некогда. Народ вон уже идет, стекается во двор к Василию Ивановичу с бельевыми свертками под мышками, со снедью в кошелках, сумках и узелках (после бани крест продай, а выпей, - не один только Василий Иванович знает великий этот обычай и русское пристрастие). Шли и дед Петро с бабкой Таней, и Игнат Лукич, и Кузьма Федотович, и дед Павленко, шли и с этого конца села, и с другого, ехали велосипедами, подводами, мчался вихрем на "газике" Анатолий Николаевич, и всех надо было Василию Ивановичу встретить, всех обласкать хорошим, приветным словом, всех перепроводить в баню - на то и хозяин.
- Куртку давай! - требовательно (или он не старшина, не главстаршина в доме?!) повелел Василий Иванович Анюте, весь уже в походе, в стремлении к бане.
Анюте в таких случаях дважды повторять не надо. Она широко распахнула дверцу шифоньера, высвободила оттуда хрустящую, похожую на морской плащ-рокан куртку и передала ее Василию Ивановичу. Тот самостоятельно разобрался во всех ее хитроумных застежках и липучках, утонул в пуховом тепле, потом, уже у порога, сменил тапочки и калоши на сапоги (тут без помощи Анюты, понятно, не обошлось) и вышел на крылечко, будто какой предводитель перед войском.
Никто его больше не спросил об увечьях и побоях (чего спрашивать: раны есть раны, без них в сражении не бывает). Все выстроились колоннами и шеренгами, и Василий Иванович, вооружась лыжной палочкой, словно маршальским жезлом, повел непобедимое свое войско в конец огорода к бане.
А там, чертенок чертенком, кочегарил, раздувал в небывалую мощь огнедышащую топку Лешка Малец. Вода в котле уже закипала, бурлила водоворотами и подземными ключами. Густой, отяжелевший пар неохватным облаком оседал на стенах, осиновых гладких полках, бился в окошко, застя его и скрывая в полутьме, пытался проникнуть и в предбанник. Но Лешка был на страже, не позволял пару до срока вырваться из заточения, остыть.
На подходе к бане ведомое Василием Ивановичем войско разделилось на две части, на два полка. Один, женский, ушел на свою скрытную половину, а другой, мужской, пробился под присмотр Лешки. В той, женской, половине Василий Иванович приметил вдруг Катерину, стройную и гибкую, как лозинка, в смешной такой, еще почти детской шапочке-берете. Пришла все-таки, не застеснялась, не заробела, не забоялась людского говора, мол, необрученная, невенчанная, а пришла к жениху в такое потаенное место, куда не придет иная и замужняя женщина.
Лешка тоже заметил ее, вскочил на приступок крылечка, тоже безоглядно закричал ей что-то призывное, откровенно-смелое, замахал рукой. И она откликнулась на его призывы, но не словами, не взмахом даже руки - нет, а лишь высоко вдруг и гордо запрокинутой головкой. Ах, Лешка, Лешка, счастье твое немереное в этой гордо запрокинутой головке, в этом любовно-нежном взгляде, в этом летящем ласточкой порыве. Служи в армии честно и скоро, возвращайся еще скорее, чтоб порыв этот не угас, чтоб ласточка эта не пронеслась мимо.
А в мужском полку Василию Ивановичу не хватало, ой как не хватало под сегодняшний день одного-единого человека - сына ему не хватало, Вани, Ванечки, Ивана Васильевича, породненного не только отцовской, дедовской и прадедовской кровью, одним корнем, но еще и морскими просторами, штормами и глубинами. Как бы хорошо было увидеть сейчас здесь и Ваню, сына любимого, надежного во взаимной их отцовско-синовьей любви и привязанности, защитника в старости, продолжателя рода и фамилии. Уж Ваня банщик из банщиков! Сызмальства приучил его Василий Иванович к этой веселой затее, сколько счастливых часов и минут провели они в дедовской бане, сколько вылежали в тропическом жару на полках, сколько нахлестались вениками, сколько выговорились. В малые Ванины годы больше говорил, конечно, Василий Иванович, наставлял его к жизни, учебе и труду, призывал и наказывал любить пуще всего на свете мать, родное село Житний Колос, поля, луга, лесные рощи вокруг него, - одним словом, Отечество, потому как без любви к Отечеству, к Родине то есть, нет для человека счастливой жизни и вообще нет никакой жизни, а одно лишь нищенское прозябание. А потом, с годами, когда Ваня вырос, окреп и возмужал, отслужил положенный ему срок на Тихоокеанском флоте, выучился, они поменялись местами. Теперь больше говорил Ваня, а Василий Иванович внимательно слушал, во всем признавая Ванино первенство и старшинство.
А как им забыть с Ваней походы в березовые рощи и дубняки за банными вениками?! Ваня, словно какая белка, ловкая и прыгучая, вмиг забирался на самую высокую березу или раскидистый вековой дуб и, вооружившись ножиком-складеньком, срезал, не причиняя никакого вреда дереву, тоненькие густолистые побеги. Иногда с ними, отбившись от матери, увязывалась и Ксюша. Цыпленок еще цыпленком, она тоже находила себе работу: подбирала сбрасываемые Ваней с верхотуры веточки, складывала их ровными кучками, пробовала и сама срезать в подлеске понизу веточки, ничуть не боясь раскровянить руку. А потом они, здесь же вот, в прохладном предбаннике, спасаясь от жары, связывали веники гибкими расщепленными надвое лозовыми прутиками. Анюта приносила им, трудолюбивым таким работникам, воды или квасу, сама садилась на порожек, нескрываемо любовалась муравьино-дружным своим семейством и, случалось, тоже подкладывала в веник веточку-другую, и те веники (Василий Иванович в бане сразу угадывал их) казались ему самыми жаркими и целебными.
Жаль, конечно, что Ваня уехал из родного села, из Житнего Колоса, в далеко-неведомый Лениград-Санкт-Петербург, оставил отца-мать, младшую сестренку Ксюшу в уединении, в разлуке. Ничего тут вроде бы и не поделаешь, высокую птицу не приучишь к низкому лету, а все ж таки и жаль, и особенно в такие вот минуты, когда надо бы собраться вместе всей семьей, всем родом, всем большим и малым Отечеством-Родиной. Бросай, Ваня, каменные свои палаты, приезжай сюда, хоть на недолгое время, на свободу и раздолье. Примем тебя по-царски, по-отцовски и по-матерински, посадим тебя в Красный угол как самого дорогого и желанного гостя, нальем полную чашу хмельного вина, вдоволь повеселимся, вдоволь и поплачем после долгой разлуки. А потом смастерим с тобой плоскодонную лодчонку-ладью (помнишь, как мастерили?!) и поплывем вниз по реке тысячествольную березовую рощу, в дубовые дебри за банными вениками. И не будет нам с тобой, старым морским волкам, отрадней и желанней плавания. Только приезжай!
И еще много чего говорил Ване Василий Иванович, звал и манил его домой, сетовал, что теперь он ходит по веники либо один-одинешенек, либо в паре с Сережкой. С ним тоже, конечно, и хорошо, и отрадно. Парень Сережка смелый, отчаянный, на любую березу или на дуб вмиг птицей-дятлом взлетит, уцепится там за самый малый сучок, и только успевай собирать, дел, понизу березовые и дубовые ветки. Но боязно за него, Ваня, ох как боязно, все-таки не сын, а внук, и головой отвечаешь за него уже не перед самим собой, а перед Ксюшей и Володькой. А что это значит, узнаешь, вот только доживешь до внуков...
Хотел было Василий Иванович рассказать Ване и всю правду про грозовую свою, рябиновую ночь, но сдержался, и не то чтобы застыдился сына, посовестился выставить перед ним свою отцовскую немощь и позор, когда не сумел он оборониться от лютого ворога, а просто жаль ему стало даже на расстоянии терзать Ваню долгими этими рассказами, приводить в смущение и обиду. Он мужик горячий, дерзкий, обиды не стерпит (мальчишкой никогда не терпел, а теперь и подавно), сейчас же все бросит и примчится чинить расправу обидчикам отца. Но он под сегодняшний день Василию Ивановичу не для расправы нужен, он для взаимной отцовско-сыновьей любви необходим, чтоб все видели и знали: просто так русского крестьянского рода не переведешь, корень ему заморским позлащенным топором не перерубишь...
Народ в предбаннике, между тем, уже разоблачился. И первым дед Петро: неспешно обнажил белым-белое свое стариковское тело (только по шее и вороту рубахи темно-коричневый от загара окоем), потом Игнат Лукич, Кузьма Федотович и дед Павленко, тоже простынно-белые, высохшие, изработавшиеся, и все четверо в принесенных с фронта рубцах и ранах. Последние жильцы отцовского боевого поколения. В детские свои годы, когда видывал Василий Иванович, Василек, в бане (хоть в своей, деревенской, хоть в железнодорожной или в потаенной еврейской), страшные эти рубцы и раны, он пугался их, робел, но все же таил в душе детскую надежду, что на молодых еще тогда телах фронтовиков они заживут, затянутся. А они, вишь, не затянулись и теперь проступают на старческих убогих костях еще страшней, вечной человеческой болью, страданием и укором...
После мужиков начали раздеваться мужики помоложе, пережившие войну в детском и отроческом возрасте, тоже уже, конечно, старики, но увечья у них не фронтовые (хотя есть, считай, что и фронтовые, военные: у того кисть оторвана, пальцы, у того глаз невидимый - и все от снарядов, мин и патронов, которые на полях сражения они подбирали да по неосторожности и калечились от них), а трудовые, работные, нажитые в тяжкое послевоенное время, когда они были одной-единой опорой матерям, солдатским вдовам. На кого ни глянешь, всюду операционные шрамы: паховые, пупковые и бедренные грыжи, язвы желудка, переломы рук и ног, по-половьи вздутые жилы. Тоже ребятам досталось несладко.
Когда и эти подстарки скрылись в огненном, жарком пару, настал черед ровесников Василия Ивановича. Все они были еще вроде бы мужики, при силе, при крепости тела, которое бугрилось литыми мышцами что руках, что на груди: кажется, молотом бей - не пробьешь, а все ж таки чувствовалось, что и они уже на излете, что не вечные эти литые бугры, и пора годкам-ровесникам Василия Ивановича передавать косы и вилы, машины и трактора сыновьям. Но из сыновей тех в предбаннике был, почитай, один только Лешка Малец да крутился возле него, словно младший брат возле старшего, Сережка-стручок еще стручком. Вот и вся подмога, вот и вся замена.
- Раздевайтесь! - весело, с задором поторопил Лешку и Сережу Василий Иванович.
- А вы? - попробовал было устоять Лешка, не смея идти в огненное банное пекло поперед Василия Ивановича.
Но тот еще более веселым окриком поторопил породненных страдой и баней братьев:
- Раздевайтесь, раздевайтесь. Я потом!
Лешка - умная, бедовая голова, сразу понял, что противиться Василию Ивановичу ему сейчас не время, надо уступить, оставить его в предбаннике одного, чтоб он разделся последним и чтобы никто не видел при свете дня черного, изувеченного его тела, черней земли и ночи.
В две минуты, как по армейскому отбою, разделся Лешка, сложил на лавке последние свои гражданские одежки (через несколько дней будет ему баня иная - солдатская, без парилки и веника, с кусочком лишь казенного полухозяйственного мыла, будут и другие одежки: кирзовые сапоги, пятнистые брюки и куртка с погонами, фуражечка со звездой; лучше бы, конечно, все флотское: тельняшка, бескозырка, брюки клеш - но это уж как Бог даст и военное начальство). Вслед за Лешкой потянулся и Сережа. Тоже проворно и аккуратно в подражание Лешке сложил рубашонку, брюки, трусы-маечку, и остались они с Лешкой чистенько-обнаженными, юными и хрупкими.
Василий Иванович невольно залюбовался крепенькими этими, нетронутыми еще, не траченными жизнью телами: у Лешки уже мускулистым, натренированным в работе, почти зрелым, а у Сережи еще худеньким, неустоявшимся, как весенняя ранняя былинка, но обещающим к Лешкиному возрасту войти в силу и крепость немалую. Это чувствовалось и угадывалось в мальчишке: плечики широкие, руки цепкие, вязкие, ступни не по годам длинные, объемистые (стало быть, росту он будет высокого, богатырского). Василий Иванович загордился и Лешкой, и Сережей. Один - воспитанник его и надежный помощник в полевых трудах, почти что сын, а другой - кровь родная, наследственная, как не загордиться...
Лешка с Сережей разделись быстро, а вот нырнули из предбанника в баню не сразу. В женской половине за стеной вдруг послышался веселый гомон, смех и даже визг (женщины как без этого могут?!), и Лешка мгновенно насторожился, вскинулся: послушался ему, по-видимому, так голос Катерины (да, наверное, привиделся и образ ее); он выделил и голос ее, и образ среди множества других голосов и видений, приблизил к себе, нежно обнял и даже шепнул что-то тихое на ухо. Катерина ответно прильнула к нему, и так они стояли несколько минут, принадлежащие лишь друг другу, отделенные от всего мира и удивляющие этот мир красотой юных своих тел.
Но вот они отпрянули один от другого, отторглись и спрятались опять каждый на свою половину. Катерина юркнула в женскую говорливую толпу и неузнаваемо затерялась там, а Лешка, обхватив за плечи Сережу, отважно шагнул за дверь и, словно Ангел какой, растаял в дымном паровом облаке.
И вот Василий Иванович остался один. Подоспела теперь уже пора и ему разоблачаться и идти в большую свою баню-купель, будто на второе рождение.
Перво-наперво он снял хитроумную заморскую куртку, опять давясь и долго пробуя на ощупь все ее заклепки, застежки и липучки и опять тоскуя по привычной телогрейке, где все просто, неказисто, а как умно и надежно придумано: и тепло в ней, и сподручно, и никакого шелеста-хруста при движении.
Потом взялся он за сапоги, брюки и рубаху, долго мучился с ними (хоть кличь Анюту из-за стенки), стонал и изворачивался, утишая боль и в плечах, и в ребрах, и в голове. Но кое-как все же разоблачился, завернул старые одежки в лоскутик и положил на подоконник (так всегда делал сызмальства, приученный еще отцом), а новые, тельняшку и белые выглаженные Анютой подштанники, приспособил а лавке, чтоб после бани оказались под рукой. На тело свое Василий Иванович смотреть не хотел, долго удерживал взгляд то на тельняшке, то на подштанниках, то даже просто, бесцельно вскидывал его на окошко. Но в конце концов все-таки взглянул при свете дня и в одиночестве (куда денешься от него - свое, не чужое, с ним жил, с ним и помирать!) и ужаснулся. Действительно было оно все чернее черного, все в кровоподтеках, ссадинах и рваных, едва-едва запекшихся ранах - почитай, мертвое уже тело, потустороннее. С таким телом входить в баню, а тем более в раскаленную до стоградусной жары парилку, хлестать его, и без того исхлестанное почти до костей, веником никак нельзя. Все раны вмиг вскроются, изойдут кровью, возопят нестерпимой болью, и еще неизвестно, чем эта большая баня для Василия Ивановича закончится. Ему бы сейчас, наоборот, в холод, в лед, чтоб оттянул он нутряной, тоже, наверное, стоградусный жар, приглушил кровоподтеки и опухоли, заживил телесные раны. Василий Иванович отшатнулся даже было от двери, но вдруг ощутил он, а потом въяве и услышал, как бьется в этом изуродованном его, почти мертвом уже теле живое и негасимое сердце, как трепещет, не сдается и не хочет умирать душа.
И он встрепенулся, расправил плечи и спину и, со всего размаха раскрывая дверь, сказал и даже пригрозил кому-то невидимому: "Нет уж, эту боль и эти страдания мы выдюжим, не русские мы люди, что ли?!"
А в бане, в затворенной парилке уже неслось, катилось по раскаленным полкам, билось в задымленное окошко:
- Наддай!
- Еще наддай!
- И еще!
Главными закоперщиками, главными парильщиками были бессмертные старики: дед Петро, Игнат Лукич, Кузьма Федотович и дед Павленко. Это они и кричали, это они и требовали плеснуть на камни из ковшика еще и еще хмельного, ненасытного квасу, сами же и плескали его, сами же, вооружась вениками, и взбирались на верхние, подпотолочные полки, где, казалось, ничто живое выжить не может, а они выживали и вперебой опять требовали:
- Наддай!
- Еще наддай!
- И еще!
Василий Иванович тоже подхватил веник, замашной и хлесткий, тоже победно крикнул:
- Наддай - и полез на самую верхнюю полку, чуть тесня деда Петра.
А когда лег на нее плашмя, когда ощутил первые щадящие еще удары дубового веника (дед Петро и вызвался его попарить, похлестать), то вдруг почему-то подумал (не к месту вроде бы и не к желанию, не к счастью своему и не к радости, а к несчастью и угнетению) о покойном Соломоне Яковлевиче. Лежит он сейчас точно так же на лавке, но не в жаркой живительной бане, а в темной бессовестной пещерке, никем не обмытый и необихоженный, да и будет ли обмыт. Небось унесут его сыновья, черные ангелы, в землю чужую, обетованную, не дав даже проститься с галантерейщиком и раввином Зямой, и зароют там в сыпучие пески, на которых не вырастет в изголовье его могилы ни печальная березка, ни мелко шелестящая на ветру узорчатыми листьями осина, а одна лишь смоковница - дерево для него незнакомое и чужое. И такая тоска охватила Василия Ивановича, что хоть слезай с полки и беги в чудо-городок мимо проклятого "Аква-Посейдона", мимо православных церквей, мимо мусульманской мечети, мимо костела и кирхи, мимо синагоги с одним-единым прихожанином и раввином Зямой, чтоб выхватить из пещерки бездыханное тело Соломона Яковлевича, обмыть его речной и озерной водой и похоронить в черноземной, родимой и непреданной им земле.
Но от деда Петра не вырвешься. Он пошел уже нахлестывать Василия Ивановича и вдоль спины, и поперек, не щадя ни ран его, ни увечий, а лишь повторяя и приговаривая при каждом замахе излюбленное свое и роковое:
- Наддай! Еще наддай!
А снизу ему вторили:
- И еще ковшик! И еще!
И наддавали, возвращая Василия Ивановича к жизни. Тела своего он уже не чувствовал, а чувствовал только душу и сердце, и были они такими легкими и неранимыми, будто во младенчестве, когда живет еще человек в раю и Царстве Небесном. На легких же, воздушных крыльях и спустился он с верхней пышущей жаром полки, когда дед Петро чуть притомился уже в банном сражении и отпустил его на недолгое покаяние в предбанник с последним наставительным нахлестом:
- Это тебе от отца! Это - от матери! А это от воли вольной!
В предбаннике Василий Иванович немного отдышался, попил ключевой воды и квасу и, дивясь помолодевшему своему, воспрянувшему из мертвого забытья телу, опять нырнул за дверь и вдруг у самого порога изловил в облачно-кучевом пару Лешку.
- Ну, Лешка, - тронул он его за плечо. - Давай попарю напоследок! Когда еще свидимся?!
- Давайте! - легко согласился Лешка и бесстрашно полез на самую верхнюю полку, где только что так блаженно лежал сам Василий Иванович под веником-секирой деда Петра.
Для начала Василий Иванович овеял Лешку веником, словно каким опахалом, от головы до пят, не прикасаясь еще к вытянутому стрункой его крепенькому тельцу, а лишь прогоняя жаркий, суховейный воздух, чтоб от него расслабились, размягчели у Лешки все клеточки и все жилочки перед настоящим банным сечением. Но что Лешке эти банные суховеи и сечения?! Он в июльскую и августовскую жару, сидя в раскаленной кабине комбайна, переносил угар во много раз тяжелее, когда градусы не видены и не мерены, и не лежа врастяжку, в отдохновении на полочке, а за баранкой и рычагами, весь в пыли, остюках и полове, обливаемый солевым потом. Под ангельским опахалом Василия Ивановича Лешка лишь блаженно постанывал, мурлыкал, словно какой котенок на солнечном припеке, все больше и больше расслаблялся, готовясь к побоищу.
- Держись, Лешка Малец! - весело вскрикнул Василий Иванович, в последний раз прошелся веником-опахалом вдоль черно-загорелого тела своего помощника (на месте лишь узеньких юношеских плавок белым-белая полоска), потом окунул веник в воду, резко, так что рука хрустнула в суставе, встряхнул его на весу - и пошел, и пошел с потягом и пришлепом обрабатывать Лешку, не чувствуя в своем собственном изувеченном теле никакой самой малой боли: даже подломанные ребра и те не давали о себе знать, как будто в единое мгновение навечно срослись и оживились.
- Держусь! - стонал, томился из-под веника Лешка, не прося ни пощады, ни снисхождения.
Ах, знать бы Василию Ивановичу, знать бы и чувствовать, что видит он это загорело-юное тело Лешки в последний раз, что в последний раз прикасается он к нему и веником, и рукой, ерошит за стриженную голову, треплет по-отечески за уши! Всего через полгода ранней апрельской весной привезут Лешку в цинковом запаянном гробу мертвого из далекой пехотной части. Привезут тайно, ночью, бросят гроб у родительского Лешкиного дома, а сами исчезнут, как тати ночные, не найдя в себе ни сил, ни совести взглянуть в глаза отцу-матери погубленного ими солдатика, в исходящие криком и стоном вмиг потемневшие глаза юной овдовевшей до свадьбы и замужества Катерины.
Когда Анатолий Николаевич распаяет гроб, сорвет с него цинковую жестяную крышку, то увидят они Лешкино тело, все изуродованное, искалеченное до неузнаваемости, с глубокими, затекшими кровью ранам и от солдатских кованых сапог, от солдатских же ремней и латунных блях с остроконечной, спарывающей тело до самых костей звездой. Уж кто-кто, а Василий Иванович сразу поймет и определит, что били Лешку всем скопом, гвалтом, били свои и чужие под водительством какого-нибудь армейского Вениамина Карловича, Абиссинца. Они, эти абиссинцы, теперь всюду, по всей русской земле, в малых и больших ее городах, в селах, деревнях и самых заброшенных хуторах. И когда же только русский обескровленный народ восстанет против них, когда же только возьмется за вилы, косы и топоры, чтоб гнать их из русской земли через все ратные поля: через Ледовое побоище на Чудском славном озере, через поля Куликовское, Бородинское и Сталинградское?! Или некому теперь подать русскому народу боевой клич, некому позвать под знамена и хоругви, неужто перевелись в России и Дмитрии Донские, и Кутузовы, и Жуковы?!
Василий Иванович, обливаясь слезами, поднимет на руки изуродованное Лешкино тело, занесет в дом и передаст с неизбывным поцелуем женщинам и старухам, чтоб они в последний, прощальный раз омыли его согретой второпях в печи водой и обрядили в старенькую солдатскую форму (новую отцы-командиры и по смерти Лешке не выдали), будто в саван.
А пока женщины будут мыть и обряжать Лешку, Василий Иванович, сидя на крылечке вместе с другими мужчинами, будет думать и думать горькую свою думу: как же так случилось, что не встретился Лешке в побойный его час легкокрылый Ангел-журавушка, поднебесная черточка, которая спасла когда-то Василия Ивановича?! Почему журавушка пролетел мимо Лешки, почему не прикрыл его охранными своими крыльями?! Или все истратил в рябиновую, грозовую ночь на Василия Ивановича и сам изнемог?! Так уж лучше бы не тратил, лучше бы поберег их для Лешки, лучше бы предпочел молодость старости! Ведь Василий Иванович свое, считай, уже отжил, отгоревал и отрадовался: все, что мог, вспахал, засеял и убрал в закрома! А кто же после него будет и пахать, и сеять, и полнить закрома?! Такой хлебороб, каким обещал быть Лешка в будущем (да и был уже в настоящем), родится еще нескоро, а может, и вовсе не родится...
Но сегодня в банный, священный час Василий Иванович думал совсем об ином. Он торжествовал, праздновал жизнь, нянчил и тетешкал Лешку Мальца веником-опахалом, передавал ему в банной купели от тела к телу, от дыхания к дыханию, от сердца к сердцу всю свою силу, весь свой разум и опыт, чтоб Лешка в армейской службе (хорошо бы на флоте) был крепче других и разумом, и опытом, и клятвой Отечеству и чтоб всего через два года (а Василий Иванович в свое время через целых четыре!) вернулся домой прямо под венец с Катериной, как когда-то вернулся Василий Иванович к Анюте.
- Для начала хватит! - смилостивился он наконец над Лешкой, хотя тот, казалось, готов был лежать на полке и терпеть не больно уж и хлесткие удары Василия Ивановича до самого вечера; он лишь время от времени вскидывал голову и чутко прислушивался к гомону, крикам и веселым визгам на женской половине, легко различая среди множества голосов звонкий голос-колокольчик Катерины.
Почти в обнимку (казнимый и казнящий) они спустились с верхотуры в понизовье парилки и хотели было уже вынырнуть из нее вначале в помывочную, а потом и в предбанник к холодной воде и квасу, как вдруг дорогу им преградил Сережка:
- И я хочу! - с вызовом потребовал он от Василия Ивановича, указывая взъерошенной головенкой на верхнюю никем пока не занятую полку.
- А выдержишь?! - изумился (но с какой гордостью) его вызову Василий Иванович.
- Выдержу! - совсем заупрямился Сережка, вмиг вскарабкался на верхнюю полку и по-лягушачьи распластался там.
- Наддай! - с задором крикнул Василий Иванович (уж если испытывать внука, так испытывать!) и, подхватывая на лету самый легонький веник, взметнулся к Сереже.
Лешка приказание его выполнил в точности и без самой малой задержки. С широкого размаха плеснул на раскаленные камни полный, набранный всклень ковшик квасу и чуть отпрянул в сторону от дымного взрыва. Василий Иванович думал, что Сережка взрыва этого не выдержит, юлой и мячиком скатится с полки, нырнет в предбанник, а то и вообще из бани на свежий воздух. Ведь доподлинно Василий Иванович знал, что в настоящей деревенской бане и в настоящей парилке Сережка впервые в своей жизни, до этого мылся лишь в городской домашней ванне, где ни огня, ни пару. Но Сережка не скатился. Малым лягушонком, ящерицей лежал на полке, а постанывал и охал от удовольствия, как настоящий мужик. И это большое всего радовало Василий Ивановича: с первого раз, с первого захода понял и оценил малолетний Сережка, мужичок-с-ноготок, что значит дедовская русская баня, дубовый и березовый веник. Навсегда запомнит он этот день и, даст Бог, навсегда пристрастится все крепнущей и крепнущей своей душой к русскому отчему обычаю, а значит, и ко всему Отечеству и будет стоять за него победно хоть на хлебном ржаном поле, хоть на поле ратном, Куликовом и Бородинском!
После Сережи парили они всей баней, экзаменовали его отца, Владимира Александровича, Володьку, учили уму-разуму, изгоняли лишний жирок, накопившийся в теле от долгого сидения в директорском кабинете и кресле. На верхнюю полку, правда, Володька не поднялся, запросил пощады, мол, сердце к такой жаре непривычное, прилег лишь на серединной, но и на серединной досталось ему по полной норме и выкладке и розгами, и вениками, и опахалами. Слез с нее, сверзился чуть живой, но донельзя довольный, по-рачьи красный и будто оставивший на полке половину объемно-толстого своего живота. То-то наука, то-то поучение!
Наконец настал черед и Анатолия Николаевича, который до этого в парилку и не заглядывал, теснился в помывочной, ждал, пока попарятся старшие по возрасту, а больше того ждал, пока парилка накалится по-настоящему, до синевы, как сошник в кузнечном горне и на наковальне, где Анатолий Николаевич любил всласть помахать и молотком и кувалдой. Парильщик он был заядлый, хотя, казалось бы, что там и парить - одни кожа да кости, все выпарилось за лето в полях и левадах, да в председательском раскаленном "газике", да в кабинетах у начальства, где парят Анатолия Николаевича всяк кому не лень.
Само собой разумеется, что взобрался Анатолий Николаевич на самую верхнюю полку (забрался бы и выше, да некуда) и лег на нее, словно на плаху, повинившись, как и полагается ему по должности, перед честным народом:
- Повинную голову меч не сечет!
Но как бы не так! Начали сечь несчастного Анатолия Николаевича и в два, и в три, и с четыре веника, да все с наставлениями и попреками:
- Вот тебе за пахоту!
- Вот тебе за посевную!
- Вот тебе и за уборку!
А дед Петро, изловчившись дубовым длинней других веником, вспомнил еще и старое:
- А вот тебе и за трудодни!
Ну насчет трудодней дед Петро, наверное, и зря. Анатолий Николаевич никак повинен в них не был, разве что сам в малые свои, детские годы работал не за живые деньги, а за палочки на конной сенокосилке да на конной же молотилке погонщиком (дед Петро, кстати, состоял тогда колхозным бригадиром и проставлял эти трудодни-палочки в тощенькую "Книжку колхозника" самым надежным своим помощникам, таким мальцам, как Толя, норовя иной раз заветные палочки и укоротить - тот еще был бригадир).
Но Анатолий Николаевич безропотно принял мученическую казнь и за трудодни, от наследства не отказался, не отрекся, такой он был безотказный человек. И если бы кто вспомнил, так Анатолий Николаевич принял бы казнь еще и за сельскую общину, и за столыпинские хутора-отруба, а то, глядишь, и за крепостное право. От века тут, в Житнем Колосе, была его земля, вотчина дедов и прадедов, и за все ему нести ответ, хоть на банной, хоть на кровавой плахе.
А на женской половине в это время, судя по доносящимся из-за стенки крикам, визгам и стонам, разгоралась, закипала своя банная вакханалия. Там были свои счеты, свои примеры и свои поучения.
Лешка иногда на замахе останавливал веник, опять различал в этом гомоне голос-звоночек Катерины, и чувствовалось, и было видно, как хочется и как желается ему увидеть сейчас на полочке ее юное розово-нежное тело с прилипшим где-нибудь на плечике березовым листочком, и как хочется прикоснуться к нему - нет, не рукой и даже не трепетно-дрожащими губами, а горячим веником-опахалом, чтоб от него оторвался еще один листочек и прилип к другому ее плечику. И точно так же хотелось (а как желалось!) и Василию Ивановичу увидеть зрелое, нестареющее тело Анюты, ее женскую величавую стать и тоже поманить ее на огнедышащую полку ( как манил и заманивал не раз) семейно-жарким березовым веником.
Василий Иванович даже вознамерился было постучать о бревно костяшками избитых, но уже заживающих пальцев или, еще лучше бы и громче, черенком ковшика (как тоже не раз стучал), подать знак Анюте и услышать оттуда, из-за бревенчатой стены знак ответный, милей и желанней которого нет ничего на свете.
И вдруг именно в это самое мгновение он увидел сквозь узенькое слуховое оконце, как из женской половины выметнулись табунком и стайкой обнаженно-ликующие парильщицы и все с теми же изнемогающими криками, визгами и стонами (ах, женщины, женщины, всегда-то они впереди, всегда в любом деле первые и всегда с ликованием и стоном!) кинулись с невысокого обрыва в реку.
Тут уж и мужики опомнились - пора ведь, давно пора из горячей, тысячеградусной купели да в холодную, остужающую. Иначе ведь и баня не баня, иначе ведь и зачем было ее затевать!
Толкаясь и опережая друг друга в дверях, они тоже выметнулись из бани и, беря чуть вправо по косогору, чтоб не вспугнуть, не всполошить своим нахальным появлением женщин (да их особо и не вспугнешь в такие минуты!) посыпались, забултыхали в реку. Она сразу вспенилась, вспучилась, пошла бурунами, высоким горячим паром от остывающих тел.
Солнце с изумлением выглянуло из-за кучевого осеннего облака, осветило реку ярко-колючими лучами, норовя смешать и перепутать два чистотелых табунка, две стайки, женскую и мужскую, не видя в том никакого стеснения: когда все число и целомудренно, так какое же тут может быть стеснение и робость?!
И перепутало. Лешка и Катерина сошлись на границе стаек в глубокой, по самую грудь и плечи воде, и застыли, будто две опоздавшие улететь в жаркие страны птицы: два голубя, две ласточки, два поднебесных журавлика-черточки, близко и нерасторжимо сомкнувшись головами - Лешка белой, наголо стриженной, а Катерина темно-каштановой, с разметавшимися по плечам и груди волосами. И никто не посмел из расторгнуть.
А Василий Иванович Анюту в женской толчее, в стотысячных брызгах, тумане, хохоте и веселье никак не мог различить, чему по-ребячьи огорчался и страдал всей душой. По увечью своему и невольной осторожности он спустился с обрыва последним, когда все остальные парильщики уже плавали, ныряли, взаимно - стайками - кричали друг другу что-то веселое, озорное и влекущее, а Лешка с Катериной давно уже сошлись в глубокой объединившей их в единой целое прозрачно-голубой воде.
Василий Иванович в огорчении своем и ребячьей зависти вздохнул глубже и томительней любой самой глубокой воды, но ждать некогда (Анюту он выследит и различит потом) - пока тело горячее, огненное, надо нырять в холодную, остужающую купель, а то оно перегорит, испепелится начисто.
Легко оттолкнувшись на песчаной отмели, Василий Иванович и нырнул по-морскому бесшумно и по-молодому сильно, сразу уйдя на самое дно. Глаз он вначале не открывал, боясь, что, изувеченным и кровотечным, им в глубинной воде станет вдвое больней, чем на свету, но, когда коснулся рукой дна, то все-таки открыл и вдруг воочию увидел, как из мрака и темноты ползет-извивается на него кудлато-седое какое-то, по-самоварному толстое чудище, не иначе как подводный и подземный царь Посейдон, владелец и грозный повелитель всех рек и морей. Василий Иванович хотел было бесстрашно схватить его за бороду, чтоб вытащить наверх к людям и посмотреть на него там всем народом, такой ли он на самом деле грозный и страшный, как о нем говорят. Но в это мгновение через всю толщу воды донесся до Василия Ивановича какой-то высоко-зовущий и требовательный звук, благовест. Посейдон сразу этого звука устрашился, не выдержал его и стал уходить в темноту, сливаться с водой и наконец слился и растаял в ней совсем. А Василий Иванович, наоборот, начал выныривать, идти навстречу радостно зовущему этому, православно-колокольному звуку, навстречу ярко-горячему солнечному кругу, который тоже звал и манил к себе из подводного холодного царства.
Когда же вынырнул, то вдруг увидел, как все званные им на праздник люди, мужчины и женщины, старики и дети, уже выходят из реки, будто заново крещенные возникшим из осеннего кучевого облака Иоанном Крестителем, непобедимые и готовые постоять и за него, оскорбленного Василия Ивановича, и за родное свое село Житний Колос, и за чудо-городок с Красной площадью посередине, и за всю необъятную из Родину-Россию.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чрезвычайно характерны послереволюционные дневники не ушедшего в эмиграцию В.Г.Короленко, писателя, который даже в большей степени, чем Карабчевский, был до 1917 года объектом еврейского поклонения. Тут особенно уместно непосредственно сопоставить дореволюционную и позднейшую позиции прославленного писателя. В свое время, услышав чью-то фразу: -Я человек русский и не могу выносить этой еврейской наглости, Короленко категорически возразил: ...никакой еврейской наглости нет и не может быть, как нет и не может быть еврейской эксплуатации, потому что невоспитанных, да и подлых, людей хватает в любом народе 28 . Однако тот же Короленко записал 8 марта 1919 года в своем дневнике, как бы опровергая самого себя: ...среди большевиков много евреев и евреек. И черта их крайняя бестактность и самоуверенность, которая кидается в глаза и раздражает. Наглости много и у неевреев. Но она особенно кидается в глаза в этом национальном облике 29 . Кто-нибудь, вполне возможно, придет к выводу, что в Короленко, так сказать, пробудился ранее дремавший в нем антисемитизм, и он начал обличать специфически еврейскую наглость, то есть предъявлять обвинение евреям вообще, евреям как таковым. Но это вовсе не так. Владимир Галактионович заметил только, что в еврейском облике наглость особенно кидается в глаза. Здесь Что скажете?
|
Вот прочитал:...................................... Что скажете? Если Вы это, Гриня, ко мне, то скажу: Кожинов всегда был на мой взгляд одинаково неубедителен и когда занимался жидоедством, и когда "защищал" Короленко от собственных мифических обвинений в антисемитизме, и когда из вполне прозрачных соображений шел на унизительное признание ретирады миролюбивого и полоухого Голиафа перед хитрожопым Давидкой, учинившим ему революцию.
|
|
|
|
|
|
книгу коротких пьес НОЧЬ С ТЕАТРОМ ╚Ночь с театром╩ первая книга на русском языке, вышедшая в серии ╚Wienzeile русская серия╩. ╚Wienzeile╩ (Винцайле) журнал австрийских анархистов, отметивший в прошлом году своё 15-летие. В книгу ╚Ночь с театром╩ вошли избранные пьесы, присланные на Фестиваль Короткой Драмы ╚One Night Stand╩ (Москва, ночь с 1 на 2 апреля 2005 г.). Редактор-составитель книги Станислав Шуляк (СПб). Художник Ольга Курашевская (Москва). В книгу включены пьесы следующих авторов: Александр Железцов (Москва). На минуточку Любовь Задко (Екатеринбург). Снегодождь Владимир Зуев (Екатеринбург). Шутка Виктор Лановенко (Севастополь). Клубок Вадим Леванов (Тольятти). Вкус жизни Александр Образцов (СПб). Негр на час Оксана Филиппова (Вена-СПб). Гараж Станислав Шуляк (СПб). Вечный жид Сергей Щученко (Киев). Возвращение Владимир Яременко-Толстой (Вена). Куроёб Контакты: Станислав Шуляк e-mail shuljak@peterlink.ru
|
Заметки о книге коротких пьес ╚Ночь с театром╩, написанные составителем оной С. Шуляком для ее (книги) благонравного заключения ╚One night stand...╩ Это можно перевести как ╚остановка на одну ночь╩. Или ещё ╚свидание на одну ночь╩. Именно так назывался фильм Майка Фиггиса с Уэсли Снайпсом и Настасьей Кински. Те же слова появляются и в ╚одноимённой╩ песне Энрике Иглесиаса: ╚One night stand // I dont think shes coming back for more╩. В американской просторечной ╚сексологии╩ именно так обозначается ╚разовый пересып╩. Понятно, что в подобном контексте перевод выражения ╚One night stand╩ как ╚Ночь с театром╩ является весьма свободным и даже рискованным. В Европе проведение фестивалей ╚One Night Stand╩ как неких культурных театральных, драматургических марафонов стало уже традицией. Совсем недавно такой фестиваль пришёл и на российскую землю. В ночь с 1 на 2 апреля 2005 года в Москве в клубе ╚Дом╩ в режиме нон-стоп состоялось это действо, временами изрядно напоминавшее вакханалию или шабаш (проводили Фестиваль Олег Ульянов-Левин и Ольга Дарфи). Короткие пьесы из разных уголков России (и не только России) читались, исполнялись актёрами и самими авторами. Как водится, не обошлось без обид, недоразумений, скандалов и даже мордобоя. Сей безумной, беспорядочной ╚ночи с театром╩ предшествовала многомесячная работа Большого и Малого жюри Фестиваля. Всего в адрес Фестиваля, проводившегося под патронажем журнала австрийских анархистов ╚Винцайле╩ (Венская строка нем.), поступило ровно сто тридцать пьес. Главными же ╚судьями╩ происходившего в клубе ╚Дом╩ были сами зрители, голосовавшие своим поднятием рук за пьесы или против них, за авторов и исполнителей или против них. Ночь с 1 на 2 апреля 2005 года в Москве была ночью анархии и аккламации. Настоящая книга составлена из пьес, присланных на Фестиваль Короткой Драмы ╚One Night Stand╩. Это не книга ╚по итогам фестиваля╩, это именно избранное, без учёта того, какие лавры снискали или не снискали автор и его пьеса на Фестивале. С официальными же итогами можно ознакомиться, например, на сайте ╚Ясная поляна╩ одного из организаторов Фестиваля Владимира Яременко-Толстого: http://www. tolstoi.ru/ По мнению составителя, книга вышла вполне репрезентативной. Рутинное или, положим, экстремистское в ней присутствует ровно в тех же пропорциях, в каких оно присутствует и в самой жизни. ╚Электричество успеха╩ же, следует полагать, никак не коррелирует с жанром, но сопрягается лишь с качеством текстов. Сие, впрочем, не доказуемо, но и не опровержимо. Жанровый же спектр текстов в книге достаточно широк. Но что особенно ценно все тексты весьма русские. ╚Ночь с театром╩ книга короткой русской драмы in vitro. Скетчи Александра Железцова ╚На минуточку╩ и Оксаны Филипповой ╚Гараж╩ мгновенные снимки русского человека в его природной низости и бесчестии с применённым к тем (снимкам) фотоувеличением сарказма. Смерть не есть убежище от человеческого корыстолюбия, показывает нам А. Железцов. Известное русское ╚сам погибай но товарища выручай╩ в пьесе О. Филипповой сменилось: ╚Прости, Пётр, метро закрывают, а денег на такси нет...╩, и в этом слышится едва ли не огенриевское ╚Боливар не вынесет двоих╩. Вадим Леванов в пьесе ╚Вкус жизни╩ и Александр Образцов в пьесе ╚Негр на час╩ заняты обустройством новой русской мифологии. Сладость шоколада и горечь водки образуют ╚вкус жизни╩ русского человека, нашего современника, будто бы взашей вытолкнутого из жизни и её смысла. А история о драке русского эмигранта в Америке с нанятым им на час негром вдруг оборачивается пронзительной песнью о Родине. Возможно, хорошая пьеса отличается от всех остальных наличием в ней большого количества неких внутренних семантических рифмовок, отсутствием в ней случайного или необязательного. Автор данных строк берётся показать таковые рифмовки любому желающему в страшной, щемящей пьесе Владимира Зуева ╚Шутка╩ и в притче Сергея Щученко ╚Возвращение╩. Выверенность мотивировок и тонкое психологическое письмо отличает комедию положений (вернее одного положения, причём, весьма рискованного) Виктора Лановенко ╚Клубок╩. ╚Вечный жид╩ Станислава Шуляка человек катастрофы и недоумения; монолог его перпетуум мобиле жалоб и насмешек, за которыми проступает метафизическое отчаяние. В поэтической фантазии Любови Задко ╚Снегодождь╩ пассажиры троллейбуса попадают в полосу снегодождя, и останавливается время, и происходит утрата самих себя, и немало душевных усилий требуется после для того, чтобы заново осознать и сфокусировать себя. ╚Куроёб╩ Владимира Яременко-Толстого как будто ионескианский ╚бред вдвоём╩. Мифический куроёб завладевает сознанием персонажей, быстро вытесняет в тех ощущение реальности. Завершается эта короткая пьеса аллегорическим изгнанием мифологического в человеке: ╚...больше не возвращайся! И газету свою с собой забери╩! Настоящим изданием журнал австрийских анархистов ╚Винцайле╩ открывает серию книг на русском языке: ╚Винцайле русская серия╩. Станислав Шуляк
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
http://artofwar.ru/b/bobrow_g_l/text_0280.shtml вещь тяжелая и страшная, но... очень и оченьвозможная у нас. кто в теме?
|
|
|
|
А я вот и не слышал о вами названном авторе "Золотой бабы", да и сам сей автор ничего не знает о сибирских и степных каменных бабах и легендах об их золотых тезках, мне думается. Не бывает людей с этими именами в студенных землях. Такими уж они уродились. Но пишут о них именно они. А вот насчёт Павленко вы бросьте. Советую прочитать. Или посмотреть практически гениальный документальный фильм о разгроме немецко-фашистских войск под Москвой по его сценарию. Да и ныне печально известный роман "Счастье" не грех вам бы почитать. Критики старого времени вам не нарвятся? Не читайте тогда и Белинского с Писемским. А мне вот нынешние продажные критики в большинстве своем не по вкусу. Как быть? Вы - критик? Я - да. Недавно прочитал одну прекрасную статью по творчеству опять-таки такими, как вы, забытого Льва Овалова. Пришлите свое, прочитаю - сравню, тогда вашему воплю возмущения, быть может и поверю. А журнал хороший. Вас, по-видимому, они просто отказались публиковать, вот вы и сердитесь. Я, к примеру, там тоже не публиковался ни разу. Но не воплю же от возмущения. А читаю новый роман Владимира Гусева. И он мне нравится. Будут силы и время, обязательно откликнусь критической статьей. А вы скажите тогда, что я - покойник, что мое мнение никому не нужно. Договорились? Валерий
|
|
|
Для того и существует википедия и прочие информашки, чтобы поклонники авторов писавли туда статьи о них. Напишите и вы о Миле Езерском, прочитаем. Отчего вы хотите, чтобы это сделал кто-то другой? Все дело в тмм, наверное, что история джревней Иудеи достаточно хорошо описана замечательными писателями прошлого, чтение которых достаточно для современного русскоязычного читателя. Я имею ввиду, к примеру, Фейхтвангера и Томаса Манна. Что касается Белинского, то соберитесь духом его прочесть. Хотя бы статьи его о Пушкине, Кольцове. Или почитайте "Былое и Думы" Герцена о нем. Вы измените свое сугубо зашторенное перестройкой сознание. Вы удивитесь, к примеру, что даже самые великие ненавистники социалистических преобразований в стране и сторонники даже закрепощения женщин и признания инородцами всех нерусских людей почитали Белинского гением. Потому что читали его. Что касается вашего стремления прочитать всего Павленко, то я его не понимаю. Вы же заранее ненавидите и презираете этого автора. А от чтения надо получать удовльствие. Советую переключиться на Лескова и на Сервантеса. Валерий
|
|
|
|
|
|
|
|
Спасибо за помощь и за совет. Будет время - почитаю вашего протеже. Что же касается Википедии, то отношение мое к ней снисходительное, не пользуюсь ввиду ее часто полной некомпетентности в выдаваемых на гора вопросах, а часто и намеренно сфальсифицированной. А вот отношение свое к Белинскому позвольте мне иметб, ориентируясь на мнение Пушкина и Гоголя, Огарева, Герцена, того же Писемского и Толстого с Достоевским. Как, в прочем, и жанру столь неуважаемой вами литературной критики я отдаю порой большее предпочтение, нежели чтению литературных выдумок. С годами, как очень правильно отметил Моруа, круг чтения сужается, остаются книги любимые, авторы, с которыми хочешь общаться, как со старыми знакомыми, которых при каждой встрече узнаешь так, будто встретил впервые. Потому тех авторов, которые меня отвернули от себя хоть однажды, я не читаю больше никогда. Вы вправе пропагандировать своего протеже, но и я ведь вправе не спешить с ним знакомиться. Дайте собраться с силами и испытать естественное желание познакомиться с его творчеством. Договорились? Валерий
|
|
СТИХИ О ГОЛОДОМОРЕ 1933 ГОДА Солнышко светит. Грачи прилетели. Тают снега на равнинах безбрежных. Вот и прошли холода и метели, Вот и минули три месяца снежных. Белые хаты стоят над оврагом. Птицы над ними кругами летают. Будто каким-то охвачены страхом, Будто чего-то недопонимают... Может быть, запах грачей удивляет, Иль тишина не понравилась птицам?.. Бог его знает, чего их пугает, Что им мешает на землю садиться... Может быть, сверху они увидали, Как копошится в навозе старуха, Или чуть слышные чьи-то рыданья, Может, достигли их птичьего слуха... Нынче никто уж могил не копает. Нынче никто не кричит, причитая... Полумертвец на крыльцо выползает... Господу молится полуживая... Трупы лежат во дворах и в канавах, Трупы в домах и в грязи придорожной. Многие - в полузасыпанных ямах, Полуистлевшие с осени прошлой... Смрадом, замешанным с мартовским паром, Хаты полны и проулки кривые. Двое детей за колхозным амбаром - То ли уж мёртвые, то ли живые... А за амбарными теми дверями Нету ни зёрнышка вот уж полгода. Был урожай, и довольно немалый, Да увезли его "слуги народа". Гнил он на станциях в кучах огромных, Денно и нощно его охраняли. А на днепровских равнинах просторных Тысячи сёл до конца вымирали. С Буга, с Ингула, с Днепра и с Кубани Беженцев толпы брели спотыкаясь. Близких своих зарывая руками, Женщины выли в снегу, надрываясь... Те, кто добрались до города всё же, Или до Киева, иль до Полтавы, - Полуживые, и мёртвые тоже, - Все на подводах свозились в канавы.
|
|
|
|
Вам, девушка, повезло, что контрольную, которую вы скатали с интернета, не продумав ее сами и не потрудив мозгов, проверял не великий Аргоша. А то бы он вам вкатил неуд за незнание того, что "не менее" не пишется слитно. Очень жаль, что нынешние школьники и студенты не знают этого, да и не только этого.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с Уважением Александра Кандалинцева (наш адрес:Украина г.Одесса,ул. Академика Филатова дом 42 квартира 62) Адрес электронной почты:kolt@breezein.net
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Памяти Дмитрия Афанасьевича Дёмина. Исполняется 80 лет со дня рождения Демина Дмитрия Афанасьевича (27 декабря 1928 г. 5 июня 2002 г.), поэтический вариант: Дм. Дёмин. Уходящий год как всегда предписывает нам оглянуться назад и посмотреть трезвым взглядом на пройденный путь, извлечь уроки из прошлого опыта, оценить свои возможности и планы на будущее. Дмитрий Афанасьевич Дёмин принадлежал к числу поэтов трудного поэтического жанра, поскольку в достаточно необидной и приемлемой форме надо обращаться к недостаткам общества, к деятельности конкретных политиков и иных персонажей, объектов и субъектов критики. Союз писателей СССР квалифицировал среди поэтов политической сатиры и С.Я.Маршака, примеру которого Д.А.Дёмин следовал, тем более, что их жизнь в какой-то мере была связана с Воронежем, где один поэт переводил стихи Роберта Бернса, а второй поэт, Демин Дмитрий Афанасьевич учился на филологическом факультете Воронежского государственного университета (1952-1957) и не мог пройти мимо столь блестящего тандема поэтов - Бернса и переводчика М.Я.Маршака. Д.А.Демин также посвятил часть своих стихов этим нетленным частицам юмора и мудрости. Совсем недавно мы отмечали юбилей другого сатирика, Бориса Ефимова, который в параллельном плане Кукрыниксам едко высмеивал в политической сатире острые моменты истории СССР и мира. В последней книжке стихов Дмитрия Афанасьевича Дёмина, ╚Искорки из-под копыт истории╩, вышедшей только что из печати, его политическая сатира касается по преимуществу внутренних в стране вопросов перестройки и радикальных реформ, большая часть из которых вполне подпадает под острое словцо сатирика. К примеру, миниатюра ╚Рыночные отношения╩: ╚Пока ботинки двигались на рынок Одни шнурки остались от ботинок╩. (стр. 31). Или сатира на сумбурные политические планы и программы всё ещё действующего политика, Б.Немцова, миниатюра под названием ╚Демократия, плутократия, олигархия╩: ╚Капитализм! Видны ростки его, И беспощадная цена, Всё на местах: и дядька в Киеве, И в огороде бузина╩. (стр. 31). Здесь в краткой формы выражено отношение к так называемым рыночным реформам, когда они проявляются в безудержном росте цен при сокращении качества и количества производимых в стране товаров, когда количество труда и качество рабочей силы отходят в какое-то отдаленное далеко и приобретают второстепенные свойства. То есть и рыночные принципы можно испортить при неумелых и рваческих подходах, ничуть не меньше, чем можно испортить принципы и социализма. Зачастую не место красит человека, не умеющий работать в социализме не может быть конкурентоспособным и в капитализме. Или другой пример. Во времена перестройки было распространено представление, что радикальные реформы делают бывшие в советские времена завлабами ╚чикагские мальчики╩, в частности, Г.Явлинский предполагал ╚построить╩ капитализм в СССР за 500 дней. Миниатюра Д.А.Демина ╚1 Явлинский = 1 Гайдару╩ звучит следующим образом: ╚Стоит знак равенства недаром Между Явлинским и Гайдаром, И разница тут не видна Два лаборанта ╚хрен одна╩. (Рванулись неучи во власть, Чтобы в законе быть и красть). (стр. 43). Реакцию народа не неграмотные и вредоносные реформы президента Б.Н.Ельцина можно было особенно рельефно увидеть во времена прошлого дефолта России 1998 года, когда к дому Правительства РФ в Москве потянулись многочисленные пикетчики и забастовщики из разных регионов страны с требованиями изменения ситуации к лучшему. Вот как это выражено в миниатюре Д.А.Демина ╚Гнев народный╩ (стр. 49): ╚Народный гнев прорвался: ╚Ельцин, вон!╩ Конкретно, очевидно и весомо Уже возник шахтерский бастион У Белого, но с черной властью, дома╩. Творчество Дмитрия Афанасьевича Дёмина и сегодня не утратило своей актуальности, и не только потому что живы и действуют некоторые из фигурантов, персонажей того времени, но и потому что примеры прошлого нам поучительны, и из их анализа мы черпаем свои собственные силы, учимся, ╚сокращаем опыты быстротекущей жизни╩. Неспроста художники Кукрыниксы изобразили Демина Дмитрия Афанасьевича в дружеском шарже как человека, ╚приравнявшего перо к штыку╩, как подтверждение непосредственной боевой силы слова, важного влияния гуманитарного сектора на политические события и жизнь в обществе. 9 декабря 2008 г. представитель МИД РФ А.Нестеренко, комментируя коммюнике заседания Совета НАТО в Брюсселе, на поучительные замечания НАТО заметил, что Россия сама в состоянии оценить, насколько те или иные подходы партнеров отвечают интересам ее безопасности. По словам дипломата, в подходах стран альянса к проблеме Договора об обычных вооруженных силах в Европе, изложенных в совместном заявлении, ничего нового нет. ╚Впечатление таково, что члены военного блока просто достали с полки решения прежних лет, сдули с них пыль и чуть разбавили фразами на актуальные темы, отметил официальный представитель МИД. В соответствующем параграфе коммюнике мы видим все те же затертые слова о ДОВСЕ образца 1990 года как о краеугольном камне европейской безопасности, что уже давно не соответствует действительности╩ (http://news.mail.ru/politics/2226890/). Миниатюра Дм. Демина старых времен (она опубликована в другой книжке Дм.Дёмина, Библиотеке ╚Крокодила╩ ╧ 1, ╚Цели в прицеле╩. - М.: Изд-во ╚Правда╩, 1981, стр. 20), но совершенно актуально откликается на эти как бы новые обстоятельства: ╚Стратеги бредят в штабе НАТО, как в ставке Гитлера когда-то╩ (стр. 89). В подобные кратких изречениях, сродни афоризмам, говоря словами Сергей Смирнова, ╚тут все кажется экспромтом, возникшем сразу, а на самом-то деле за каждым словом и строкой - стоят поиск, работа, требовательность и емкость содержания╩. Конечно, Дм.Дёмин был также и поэтом-лириком (известны его книги ╚Без намеков╩. М.: Изд-во Советская Россия, 1985; ╚Неоконченная повесть╩ - М.: Изд-во Правда, 1981; Ходит песня. - М.: Изд-во Правда, Библиотека ╚Огонёк╩, 1987 и другие), но в настоящее время, представляется, наиболее актуальными являются именно наиболее острые стихи, посвященные проблемам нашей переходной экономики, трудностям жизни. Неприятно видеть разгул и разброд, когда, например, именем художников Кукрыниксы называет себя некий вокально-инструментальный ансамбль. Использование чужого бренда является прямым нарушением авторского права. Жаль, что правовым образом имущественных исков к этой вокальной группе не последовало, не тот уровень правовой культуры, да и ни одного художника из группы Кукрыниксов уже нет в живых. В преддверии Нового года вполне приемлемо вспомнить наши былые заслуги, победы и поражения и извлечь поучительные плоды из них. Дёмин Алексей Афанасьевич, доцент кафедры административного права МГУ им. М.В.Ломоносова, кандидат юридических наук. Жукова Маргарита Георгиевна, президент Фонда ╚Маршал Жуков╩, член Союза журналистов России. 19 декабря 2008 г., г. Москва.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заранее спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступаю соответственно словам Жан-Жака Руссо: ╚Видеть несправедливость и молчать о ней это значит самому делать такую же несправедливость╩. Комментарий к статье "Литературный марафон" в газете Тамбовская жизнь за 04.09.2010 г.), автор Маргарита Матюшина http://www.tg.tamb.ru/page12.html Кратко суть статьи: ╚С 10 сентября по 1 октября пройдет фестиваль ╚Литературный марафон╩, целью которого, по замыслу инициатора областного управления культуры и архивного дела, и организаций, реализующих мероприятия в рамках соцзаказов области (╚Литературный фонд России╩ и ╚Молодежные инициативы╩), станет популяризация книги. Начнется фестиваль книги и чтения 10 сентября в областной детской библиотеке с пресс-конференции, в которой примут участие первый секретарь Союза писателей России Г. Иванов и московский критик В. Калугин. Жители Мичуринска и Мордова встретятся с сопредседателем Союза писателей России В. Сорокиным и московскими поэтами. К жителям районов и городов приедут литераторы А. Гиваргизов из Москвы, Е. Новичихин из Воронежа, В. Дорожкина, Т. Маликова и Н. Наседкин из Тамбова. Еще одна большая акция, связанная с юбилеем С. Сергеева-Ценского, в которой примут участие тамбовчане, состоится в Крыму. С 15 по 18 сентября там пройдут Дни культуры Тамбовской области. Делегацию Тамбовской области возглавит заместитель главы администрации области С. Чеботарев. 10 и 11 сентября в Тамбовской области пройдут мероприятия, посвященные 210-летию со дня рождения Евгения Боратынского╩. Тамбовское областное управление культуры и архивного дела опубликовало книгу Дорожкиной о Боратынском, в которой ничего не было нового, всё переписано из книг исследователей творчества его биографии. Дорожкина, как редактор получила гонорар. В то же время Тамбовских писателей и поэтов, которые пишут лучше Наседкина и Дорожкиной не публикуют, ссылаясь на кризис. В рамках ╚Литературного марафона╩ происходят и другие многочисленные процессы растраты и отмывания бюджетных денег. Правоохранительные органы делают вид, что ничего не происходит, игнорируя мои статьи. О.И. Бетин 10.09. 2010 сказал, что всё держится на инициативных людях (по смыслу) по растрате денег. Из 32 членов Тамбовского отделения Союза писателей в этом мероприятии было дозволено участвовать только троим: В. Дорожкиной, Н. Наседкину, Т. Маликовой, у которой стихи ещё хуже, чем у Дорожкиной. Остальные, в том числе и всё литературное объединение ╚Радуга╩ при СП, в которой имеет честь состоять Ваш слуга, не приглашены, отвергнуты. Зато в фестивале много руководителей различного ранга, чиновников, чуждых литературе. Говоря, что Тамбовское отделение Союза писателей выиграло грант на литературные мероприятия, Н.Н. Наседкин считает их праздниками для чиновников, что так и есть на самом деле. Все нарушения происходят от того, что нет федерального Закона о культуре, всё возложено на областные администрации, за которыми нет никакого контроля. Познав независимость, чиновники цинично стали нарушать Конституцию РФ, по подобию произвола ╚независимых╩ судей. Все мои статьи по вопросу растраты бюджетных денег я направлял главе администрации Тамбовской области О.И. Бетину. Ответы оказались отписками. Так, например, вот одна из отписок: ╚Администрация Тамбовской области ул.Интернациональная, д. 14, г.Тамбов, тел. (4752) 72-24-64, факс (4752) 71-37-56 08.09.2010 ╧ Л-28-5010: Ваше обращение по теме ╚Культ личности Дорожкиной позор Тамбова!╩, поступившее в администрацию области из раздела сайта ╚Вопрос главе администрации области╩, принято к сведению. С уважением, помощник заместителя главы администрации Тамбовской области Е.Н.Зуева╩. В моих обращениях шла речь о расходовании бюджетных денег не по назначению. Через неделю после отправки этого послания Е.Н. Зуевой, её руководитель заместитель главы администрации Тамбовской области С.А. Чеботарёв во главе делегации чиновников, разбавленной Дорожкиной, Наседкиным, Маликовой был направлен в служебную командировку в Крым. Растрата бюджетных денег проходит под эгидой "Литературный марафон" по принципу пренебрежительного отношения к настоящим Тамбовским писателям и поэтам. Этот хитрый принцип используется для исключения дискредитации творений избранной Дорожкиной, а так как творчество многих других лучше, то сравнение чиновникам ни к чему Сатирическая поэма, как развитие сюжета эпиграммы ╧ 1 и очерка ╚КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ ДОРОЖКИНОЙ ПОЗОР ТАМБОВА!╩ http://www.litprichal.ru/work/47122/ Культ личности Дорожкиной в позор Тамбов вогнал абсурдностью своею. Парадоксальную затею изобличить велел мне возмущенный Бог. Чиновничеством, в азбуке стиха чужом, швырнули звонко чин поэта Дорожкиной, в элиту влезла что ужом, верша беззубости без цвета. В тех виршах безыдейно-мелких и сухих души нет, но зато есть рифмы. Все областные средства ей за счёт других! Не можем одолеть сей риф мы. Ей в Управлении культуры блат как сват, руководит её подруга, книжонки переиздавая. Все ловчат, завязывая подлость туго. И кульминация Почётный гражданин Тамбова, верх дискредитаций людей известных Лицемерию сродни их так порочит визг оваций! Ликует на тропе предвзятости конфуз: опять из тьмы пролез наружу коррупции и недомыслия союз, в Тамбове Дума села в лужу, где телевидение плещется уже не замечая даже грязи в ╚подарочке╩ от Ивлиевой-протеже в отстойник гордых несуразиц! Здесь прячется фальсификации пример: ╚эксперт поэзии╩ Наседкин, второй Туркевич, он от денег очумел, за клевету едя объедки с Дорожкинского криминального стола. В стихах профан он, но прозаик! Фантасмагория с печатью сорвала с тех маски, ложь что заказали ему, как председателю среды Союз писателей, где есть поэты и поэтессы-минусы. На что им плюс? Дорожкинцы в цинизм одеты при отмывании бюджетного рубля, от попустительства той власти, юлит в отписках что, подарочки деля, среди ╚Тропинки╩ и отчасти. .И фестиваль ╚Литературный марафон╩ направлен против всех талантов: ╚Уйди же, стимул, из литературы вон, Дорожкинцам бы больше грантов! Ведь культу личности забавы лишь нужны, литературный фонд на это. Мы с ним погреемся в Крыму, не жаль казны, в судах расхолодило лето. О, судей ╚независимость╩, нам жить даёшь, стабильно нет на нас управы, а чуть что: деньги извели на молодёжь, культурные пусть знает нравы. На эпиграммы не привыкли отвечать? Мы реем над ямбохореем, украсть велит в активе круглая печать, на зависть делать то умеем. Для популяризации никчёмных книг, но издаваемых по блату, отнимем деньги мы у матерей и вмиг свершим Дорожкиной доплату. Девиз наш: лишь того, кто лучше, не издать! Пусть настоящие поэты обиду будут ощущать, на то плевать, ведь сыты мы и приодеты. Но то вершина айсберга! Подводный мир наш подкупной, и этим дорог Цинизм Тамбовский так логичен: подкорми и вирши выйдут из задворок╩. Подслушал монолог начальства я не зря, всё Конституции согласно. Такой ведь наглости нет даже у царя, продолжу раскрывать опасность. Чтоб бесталанным членами Союза стать нужна российская поддержка, пока за них властей Тамбовская печать и телевидений тележка. И вот сопредседатель, первый секретарь, московский критик в списке сметы, предвзятость вновь вознесена во всём! Как встарь, вздыхают местные поэты. По смыслу всё предназначалось лишь для них чиновничество же решило: бюджет себе, Дорожкиной и тем, кто лих, часть для российского страшила. Полгода возмущался автор этих строк мошенничеством, беспределом, но соучастников средь власти круг широк бюджетом мафия владела. Несправедливостью отринутый поэт попался в зубы той акулы, что ест всегда больших, несёт в себе кто свет, не зря же вирусы к ней льнули, коррупцией в законе власти заразив. В подводном озверелом мире ей легче наживаться без альтернатив, чтоб с жиру равной быть транжире. Под видом фестиваля, тайно, воровски, ублажив фальшь, присущей ╚приме╩, умаслив приглашённых из Москвы-реки, она щурят в ту лужу примет В болоте затхлом упомянутый Союз оставил троп следы да рожки. Наседкин оборотень, совестью кургуз, закуской стал сороконожки. НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВ Тамбовский
|
|
|
|
|
|
|
Хотел бы что-нибудь хорошее и достойное журнала написать.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Karya Penulis Cipto Junaedy Mega Best Seller Property
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
berita Film Soekarno terbaru berita Harga Minyak terbaru berita Gosip Terbaru hari ini berita BPJS 2014 terbaru berita Arema Indonesia terbaru
|
Я почему это вспоминаю? Мы долго не виделись с Лешей Мысливчиком, лет, наверное, двадцать, а то и больше не созванивались и не переписывались. Как разбросала нас жизнь по окончании института по городам и весям, так и ограничилась наша с ним дружеская связь на уровне ностальгических разрозненных видений о той замечательной студенческой поре, полной творческих надежд и, в отличие от ╚Ляписа Трубецкого╩, подвижнических помыслов. А тут вдруг я нашел Лешу. Набрал в поисковой программе в гугле Алексей Мысловский (так его фамилия звучит в переводе с белорусского, а он был сам из тех краев) и наткнулся на сайт Воспоем, где и был указан адрес его электронной почты. Воспоем, воспоем? Ну да, он же еще в студенческую пору ╚заболел╩ религией, вот и продвинулся, видать, по этой части, запев под гитару патриотические и богомольные песенки. А почему бы и нет, собственно, раз уж душа этого искренне требует. Главное, чтобы было на пользу Не всем же, как я, быть атеистами! Написал Леше письмо - и он мне, надо же! - в тот же день на него и ответил. После стольких лет разлуки - истинное Новогоднее чудо! А было это числа второго или третьего, нынешнего 201 года. ╚Серега? Литинститут? Москва? Тольятти? Неужто это ты? Среди наших давно ходили слухи, что тебя отправили на небо Я не верил. Подтверди, будь ласков, что ты живой. Я буду рад, как сивый мерин╩, - привожу я его послание дословно. Я подтвердил - и выпросил у него, в свою очередь, номер сотового, намереваясь тотчас набрать и поболтать с ним вживую, а не посредством эпистолярного жанра. Голос есть голос это почти что увидеться, а по ╚электронке╩ напереписываться мы с ним, даст Бог (вот, кажется, и я уже становлюсь верующим) еще успеем. - Ты где теперь живешь? Все там же, в Балашихе? спрашиваю я его, помня, что давным-давно он переехал туда, разменяв свою квартиру, из Минска. - Нет, теперь уже в поселке под Владимиром. Я люблю Москву, но она теперь уже не та сам, наверное, знаешь А тут река и вид на Храм, как на картине живописца, - звучит в трубке его, как мне сдается, несколько старческий голос. А что тому удивляться? Время неумолимо делает со всеми нами свое черное, пагубное дело. Хороши ли, плохи ли, талантливы либо бездарны, богаты или же бедны, однако все мы одинаково смертны. Тут уж стоит только принять это как должное и смириться (сами собою напрашиваются на язык слова какой-нибудь молитвы. Плохо, что я ни одной из них не знаю). И тут вдруг Леша в разговоре вспоминает упомянутого ранее Вячеслава Дегтева. Говорит мне, что покойный теперь в Воронеже, откуда сам родом, очень почитаем и известен, что его там называют даже нашим русским Джеком Лондоном и устраивают в память литературные чтения. - А как он жил-то? поддерживаю я беседу. На ╚Волге╩, как хотел, с водителем ездил? Или по нынешним временам уже на мерседесе - Да нет, конечно. Одни мечты, в реальности все у него по другому вышло. Как он был, так и остался бессеребренником имел с десяток жен, и те его при разводах окончательно разорили. Еще немного пообщавшись по линии сотовой связи, мы расстаемся с Лешей на доброй возвышенной ноте, пообещав друг другу не пропадать впредь - и созваниваться, и переписываться почаще. А я затем, послонявшись с минуту по своей холостяцкой ╚однушке╩ и не зная, чем занять себя на оставшийся вечер, открываю интернет и выискиваю, собираясь почитать, что же у нас там написал такого выдающегося бывший сокурсник Слава Дегтев? И натыкаюсь сразу, в ссылках, на рассказ ╚Четыре жизни╩: ╚Он лежал и умирал. Из развороченного бедра вытекала кровь. И уходила вместе с кровью, съеживалась, как проколотый воздушный шарик, молодая его жизнь╩. О, как глубоко и смачно с первых же строк автор ╚копает╩, подмечаю я для себя. Завораживает читателя, берет, так сказать, быка за рога. Что же будет дальше? А дальше, по мере ознакомления с текстом, понимаешь, что это полная фигня, история то высосана из едва ли даже? пальца. И отдает откровенным лубком и конъюнктурой. Ну, каких-то двое молодых пацанов, с плохо прописанными характерами, побросав отчий кров и занятие живописью, якобы, поехали из патриотических убеждений воевать за Сербию, да там и полегли, прикрывая от шквального огня противника друг друга. И тут бы надо, жалея их, взять и расплакаться, но только почему-то не плачется? И проникнуться высокой идеей, ведь, по словам автора: ╚Сербия сейчас пробный шар, она сейчас полигон для настоящей агрессии. Против кого? Конечно же, против России╩. Но и тут идет попадание мимо цели. Красивостей в тексте много: и автомат тут дымит, как чайник, и пуля в ствол со скрежетом входит, и цветочки в воспоминаниях умирающего героя о маме отнюдь не тепличные, а как бы даже натуральные, луговые. Однако, отчего-то за сердце не берет, и душу, как от прозы, выстраданной писателем, не цепляет. Это, конечно, не те уже примитивные графоманские сравнения, которыми оперировал он в прошлые ученические годы, готовясь к защите диплома в Литинституте. Бумагомаратель заметно преуспел (видно, не раз его поднимали на семинарах на смех) и прибегает теперь в своей прозаической живописи к мазкам более сочным и выразительным, да только пишет он свои картины как бы не с натуры, а увиденные на страницах печатных изданий или в телевизоре. Накладывая, таким образом, кальку на кальку и не добиваясь заветной цели. Вроде бы в прошлом военный летчик, вот и писал бы себе в удовольствие и читателям на радость о том, что знает о голубом небе и рассекающих его глубины серебристых истребителях Либо про расторжение браков, как серийный многоженец! И на кой черт ему сдались эти вымышленные пехотинцы, тем паче ищущие приключений на свою задницу в отдаленной Сербии. А еще я слышал, что Слава Дегтев подвергал в своих рассказах подобному препарированию (как лягушек не натуральных, а с иллюстраций) персонажей, чуждых ему по менталитету: бомжей, зэков, наркоманов и бандитов. Короче, тех на кого тогда пошла беллетристическая мода. Как по законам политэкономии: ╚спрос рождает предложение╩! И, как бы в подтверждении своих слов, натыкаюсь ниже в инете на такую пометку: ╚ Несмотря на очевидные литературные достоинства произведения, следует отметить, что автор, судя по всему, ряда вещей просто не видел╩. Это рецензия Горчилина Дмитрия Ильича в журнале ╚Самиздат╩ на один из многочисленных опусов вышеупомянутого мастера слова. И тут уж хочется по-дружески воскликнуть: - Эх, Славик, Славик, сыграла жизнь пусть и короткая! над тобой злую шутку: соцреализм как метод давно издох, и соцзаказ как кормушка давно иссяк, а ты все так и продолжал, до последнего часа своего, как Дон Кихот, гоняться за этими ветряными мельницами. Дались тебе эти Дульсинеи Тобосские, которым ты так упоенно слагал свои поэтические элегии. И если вдруг, как я читал у одного литературного критика, в Воронеже, на родной земле писателя, благодарные потомки все же решатся соорудить Вячеславу Дегтеву памятник (сам-то он при жизни воздвиг себе нерукотворный), то пусть он на нем, как провозглашал когда-то во всеуслышание и на полном серьезе, едет с водителем на служебной ╚Волге╩ и раздает книгочеям - или нет! - лучше разбрасывает, как писал о нем Юрий Бондырев, пестрые лепестки своих рассказов. Вот такое мое пожелание. Светлая память ему, хороший он был парень Слава Дегтев. А уж писатель, не все читал не знаю Тольятти 05.01.2014
|
|
|
|
|
|
|
Toko Bunga
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На 317028 // Скот -азиату - прямо в пасть: Вы, приятель, - шиза. / Примите йяд и успокойтесь. Потому как, - ВЕШАТЬСЯ у вас не получается. / Крюк не держит. == Он вешался, но был спасён. / Он жив с рубцом на шее. И он нудит нам день за днём / Свои МАНТРЫ БРАДОБРЕЯ. ==
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заболел приятель мой, Словно сдулся - сник... Прихожу к нему домой, Говорю: Старик! Что уныло тут жуёшь? Так уныло жу... Девкам песен не поёшь... Понял, ухожу... От меня ж ушла жена - Месяц уже нет... Я ж не плачу, уже на Новенькой жене! Заболел приятель мой, Словно сдулся - сник... Он развёлся раз восьмой, Видимо - старик! Что, уныло без подру..? Глянь, идёт одна! Слева-справа по ведру - Предлагает: На! Заболел приятель мой, Словно сдулся - сник... Он мечтает об одной... В вёдра он не вник!
|
Ну, а в ту - не вник! Что уныло тут жуёшь? Так уныло жу... Что ж ту замуж не берёшь, Что кричит: Рожу!?
|
|
А ты болен. ты серьезно болен. Куклинофобия - это уже диагноз. Тем паче, что вы все - куклинофобы - действуете по одному сценарию, с одинаковыми обвинениями личностного характера и массой оскорбительных слов и одинаковых инсинуаций. Вас много, но самыми настырными и совсем не ооригинальными были: Аргоша, Гекрман и ты, то бишь еврей-американец из Ленинграда, русскийц нремец с Северного кавказа, проживающий в Германии, а также ты - сам знаешь кто. Такие вроде должны быть разные людишкеи, а как только ртры обо мне открываете - так сразу становитесь, как близнецы. Словно вас в одной конторе на одной наковальне отковывали, одни м и тем же методам пропаганды обучали. Поначалу - при Аргоше - действовало, я даже обижался дважды на него, но при Германе к мерзостям из ваших уст привык, а уж на тебя и не обижаюсь. Лаетесь, клевещите, а я только ярче сияю. Яко солнышко сквозь тучи. Ибо солднышко вечно, а тучи убегут. Ибо еще и очень скромный я, аки святой Иосиф Саровский. Ибо себя я, как Маяковский, "под Лениным чищу", а ты - под Ельциным. Приезжай к нам в Берлин,напейся до свинячьего состояния, станцуй под стенами Рейхстага вприсяджку - и тогда все увидят твою истинную правоту и верность заветам твоего вождя и учителя.
|
|
|
|
|
Сочувствую. Но не глубоко. Жалко расстраченного вами вхолостую таланта под мидии. Безответственно это в отношении почитателей вашего таланта.
|
|
|
|
|
|
Я тут появился задолго дол вас настолько, что у вас дети доложны были вырасти и пойти в школу, стать пионерами и задуматься о том, как бы им вступить в комсомол. так что с прот епкциенй вашей вы оплошали. Но даже если бы была протекция, что это меняет в моем отношении к вашему творочеству?Мне по душе ваш талант, но не нравится ваша излишняя егозливость и ваше стремление пропрагандировать апокаприфическое Евангелие от Фомы. Сейчас идет битва православия и католико-иудаизма, в котором даже я - атеист - встал на сторону православия. а ВЫ, ПОЛУЧАЕТСЯ, встали на противоположный конец весов истории.
|
И кто бы говорил о самооценке? Неужели "конгениальный" (по самоценкам) Куклин поумнел?!! Поздравляю, Валерик! Я же говорил что человека из тебя, в конце-концов, сделаем!
|
Как там сказал тов. Маленков на 19-ом съезде РКП(б) -КПСС? Нужно развивать самокритику! Приглашаю: развивай! Ты же верный сын партии!
|
Но да и ладно. Я тебе вот чего хочу сказать... Если ты и вправду холчешь что-то путное написать о Жанатасе, тьо советую найти материалы. опубликованные в советской прессе в 1983 году Михаилом Зиновьеквичем Островским о Каратау-Жанатасском ТПК. Легче всего их можно найти в библиотеке СЖ России или в Ленинке. Я постараюсь разыскать его вдову Клавдию Александровну или его дочь. Может, у них остаплись материалы - он готовил книгу об истории освоения этой территории. Сегодня же позвоню.
|
Не хлопочи попусту! Жанатас всего лишь частный случай, я совсем о другом собираюсь. И зачем мне освоение каких-то территорий!? Тут все вокруг не освоено, если пристально посмотреть! И в дальние дали согласен только по путевке комсомола. Но мне уже не дадут! Да и билет сжег в 22 г. И не интересны мне территории! Люди как-то больше занимают, на любых территориях, даже не отдаленных нисколько. Спасибо, конечно, за любезность! Но не беспокой попусту людей! Ищу "Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД" Документы и материалы. РОССПЭН. Что-то не попадается. Нечаянно набрел на 3 том. книга 1 1930-31 гг. Иногда приходится сожалеть о тьмутаранском своем бытии, хотя достоинств, конечно, тьма. А история по сводкам, телеграммам, докладным и рапортам чекистов - очень занятная вещь! Иногда находишь подтверждение своим догадкам, фамилии людей, о которых знал по-наслышке или по легендам. Так что - рекомендую! Почитывай документы ребятишек с горячими сердцами. Это их внутренний оборот информации, без пафоса и патетики. Деловито могли состряпать документ, обстоятельно.
|
|
jaket kulit pria
|
Обнимаю тебя... я обнимаю тебя нежными словами... взгляд на тебя я обращаю в дождь... и дождь воркует, попадая в пламя, пламя любви к тебе... а ты идёшь... как тёплый дождь, спасая красотой, опаивая всех, кто жаждет счастья... весенний дождь, воркующий о той, в чьей нахожусь я власти... любимая... любимая моя, амур-дурак тобой всё сердце занял! звездой твоею прикурил маяк... влюблённый взор заволокло слезами... я обниму... я прикоснусь дождём... утёнком гадким, изгнанным из стаи... а ты идёшь... одна..ко мы вдвоём любви история во времени простая...
|
|
|
|
Но да и ладно. Я тебе вот чего хочу сказать... Если ты и вправду холчешь что-то путное написать о Жанатасе, тьо советую найти материалы. опубликованные в советской прессе в 1983 году Михаилом Зиновьеквичем Островским о Каратау-Жанатасском ТПК. Легче всего их можно найти в библиотеке СЖ России или в Ленинке. Я постараюсь разыскать его вдову Клавдию Александровну или его дочь. Может, у них остаплись материалы - он готовил книгу об истории освоения этой территории. Сегодня же позвоню.Tempat kursus Website, SEO, Desain Grafis Favorit 2015 di Jakarta
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дай жизни! в любви меду поездка вдаль, на солнце Кубы! влюблён в звезду, зарницы аль, холодка убыль! фортово сдашь... туз козырной... зырь, черви козырь! снят патронташ, к трону спиной ягдташ увоза... прорезь, прицел... бог, царь и червь, дабы не дуло... попала в цель дворянства чернь, дымок из дула... ствол, брызги карт... марс красный, март.. уход - целковый... любви азарт, быт, секс, поп-арт... дашь жизни новой...
|
Скифы... царь царей у нас - он царь Славы! мы, народ Руси, с царём в сплаве! справедливой делай жизнь, вольной! чтоб воскресла Русь, воскрес воин! враг завистлив, враг напасть может, нам поможет, как всегда, боже... много сложено у нас мифов... говорят, сарматы мы, скифы... враг коварный в нас стрелой вязнет, пусть сольёмся мы с землёй, с грязью... из земли взойдёт копьё - воин! обернутся племена в кони! не спасут врага его латы - нет оружия - кляни матом! задави врага в его чреве - укажи судьбу копьём древним... есть заветное у нас Слово! побеждаем мы врага злого! табуном оно летит быстро, словно пуля, золотой выстрел... ароматы битв, боёв славных... смерть сравняла, нет в земле главных... мы на равных там с конём в поле... воин, конь... и никого боле...
|
Коловращение... моей любимке... *** ты щекочешь мне собой ноздри - я дышу тобой, ты мой воздух... вертикалью утром встал рано и глотнул твой аромат пряный... ниспадают на отвес космы, выверяю через них космос... ты игрива, как волос грива, рождена ты, как звезда, взрывом! погоди, не отводи душу!.. свет звезды тусклее, глас глуше... то уходишь, то придёшь снова в этом вечном и живом споре...
|
Не вр... нет её прекрасней, Дашку я люблю... губы Дашка красит, я их поцелю... жизнью беспроблемной я живу, не вру... все перед дилеммой? - ну и флаг им в ру... что мне день вчерашний? я в другой живу... полюбил я Дашу, с прошлым разорву... не нужны друзья мне, всё есть в ней одной... я без Дашки зябну, будто бы нагой... я немного грубый, но её люблю... не кусай, Даш, губы, я их зацелю... 9:24 06.04.2015
|
Дар божий... путём акро- батических усилий, вращаясь посреди блестящих дур, доеду на метро к блажен-василью, словами изложу любви паркур... любовь свою считаю божьим даром, весной в меня вселился божий дар, зачем, зачем увидел свою Дарью? - перевела всю кровь мне на нектар... её я полюбил сначала в профиль, затем сразил меня её анфас... в делах сердечных я почти что профи, но с ней... как будто снова в первый раз! а с ней мои ладони холодеют и сердце вырывается из брюк... смотрю я на неё и сердцем млею и бормочу невнятно, как индюк... приди, приди, приди же моя Дарья, пришёл я, как индеец, без цветов... я сердце предлагаю тебе даром, могу ли я надеяться на что? 7:16 08.04.2015
|
Дашин голосок... какое счастье! - слышен дашин голосок! вижу отчасти - входит носика кусок... задышу чаще - поцелуй ушёл в песок... звучу кричаще - в голосе весь дашин сок! прелести Даши созерцает мой глазок! не пляшут ваши - подобрала волосок... волосок в хвостик - шейка, ушки, все дела! поводья бросить?.. чтоб судьба сама дала?.. 16:21 10.04.2015
|
Бродяга... моей девчуле... *** твой дорог каждый пальчик... я star? ..не, твой я мальчик, а ты - моя девчуля, люблю, люблю, люблю я... прелюдия... мизинчик... с пол-оборота взвинчен... в 16 оборотов вино, вино... свинота... я не люблю винчишко - я - star, но не мальчишка! ударь валета! да..мой! засадишь? грозишь.. я..мой? прости, люблю, люблю я... поженимся в июне?.. вверх дном, сумбур, пру буром... кино... с Раджи Капуром... *** запаска для размышлений: «я star? ..не, я твой мальчик»
|
Darling... еду, еду к Даше! что весной творится? Дашу увидавши, захотел жениться! джинсики в обтяжку да в натяжку блузка! по-нашему Дашка - Darling по-французски! ох, красива девка, стойте или лягте! - Дашу-королеву увезу на яхте! жгли бы деньги ляжку, даже б и не думал... ты прости мне, Дашка, висельника юмор... из всех состояний ток соснова шишка... в холодильник глядя, повесилась мышка... кеды просят каши, деньги вырвал ветер... ты прости мне, Дашка, знаю, что ответишь... мой вопрос, как пуля в родниковы воды... окунула в cooling - отдыхай, природа! 6:57 12.04.2015
|
еду, еду к Даше! что весной творится? Дашу увидавши, захотел жениться! Подъезжавши к вокзалу, у меня слетела шляпа.
|
|
|
Даша... «Хвалу и клевету приемли равнодушно» (Пушкин А. С.) Поэма *** пусть кто-то любит ни за что - похоже, враки... тут тех бы слушать предпочёл, кто съел собаку... на красоту могу смотреть без восхищения... колчан амура пуст на треть - ждёт в нетерпении... я истекаю, как самец - амур доволен... мне не совсем ещё 3.14здец - влюбляюсь в голень... амур кладёт стрелу в стрелу, прям в оперение... стрелок обучен ремеслу - любви внедрению... ему пытаюсь возразить: нет нужных качеств, алмазу нужен абразив - я не дурачусь! нужны с задоринкой глаза, чтоб праздник брызгал! приятный голос и азарт да с божьей искрой! амур последнюю стрелу наводит в лоб мне! и говорит мне: по ребру и ум природный! и что-то щёлкает в уме, нет раскордаша! я наяву, а не во сне влюбляюсь в Дашу... 4:09 14.04.2015
|
|
во Истину! «Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь». (Римлянам 1:25) «Иисус, отвечая им, сказал: Моё учение - не Моё, но Пославшего Меня». (Благая весть от Иоанна 7:16) «Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь». (Благая весть от Иоанна 8:58) *** Христос во Истину воскрес, а в палачей вселился бес... им всем бы в Истину, в Одно, но возлюбили Зло и Дно... Любовь? ..кому она нужна? сжирает плод любви война... война полов, война друзей, царей, плебеев и князей... война религий... что Христос? он знал, что Истина не врозь... он знал, что Истина - Одно... спустился в этот мир - на дно... его убили и ушли' - мол, наших тварей не хули'! дошла ли нас благая весть? - не знают как её изве'сть... *** «Я часто говорил об этом с ангелами, и они постоянно отвечали мне, что на небесах они не могут делить БОЖЕСТВЕННОЕ (НАЧАЛО) на три, ибо знают и постигают, что БОЖЕСТВЕННОЕ (НАЧАЛО) ОДНО и что оно ЕДИНО в Господе. Они также сказали мне, что люди, принадлежащие к церкви и приходящие в тот мир с понятием о трояком Божестве, не могут быть приняты на небеса, потому что мысль их переходит от одного понятия к другому, а там нельзя думать о трёх и говорить об одном. Всякий на небесах говорит как мыслит, ибо там речь мысленна или мысль словесна; вследствие чего те, кто в мире делил БОЖЕСТВЕННОЕ НАЧАЛО на три и составил себе о каждом отдельное понятие, не собрав их в ОДНО и не сосредоточив их в Господе, не могут быть приняты»... (это сведения от Сведенборга о сведении бога из всех ипостасей в одно) ...доколе все придём В ЕДИНСТВО ВЕРЫ И ПОЗНАНИЯ Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; (К Ефесянам 4:13) ...и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения. (Благая весть от Иоанна 5:29) Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви... (Римлянам 8:26-39) 9:47 14.04.2015
|
Вклад в победный май... прикоснусь к культуре пока я тверёз... упокойся в буре, в бурном мире грёз... трону ствол устало, осмотрюсь везде... съем кусочек сала в снайперском гнезде... не берёг я шкуру, что и начинать? мне натура гуру, смерть - отец и мать... ничего, я кроме цели не ищу... мне не видно крови, выдохну, спущу... вздрогнул тот кто думал, что культурней нас... он мгновенно умер - я бью белку в глаз... дело ближе к маю... лучше не замай... гильзу вынимаю - вклад в победный май... 10:28 15.04.2015
|
Ой, да не вечер... почки набухают и свистят стрижы, девушка бухая подо мной лежит... кончилась учёба, вечер выпускной, выпустились оба этою весной... выслушали речи всех учителей... извергает вечер молодость идей... юбка из вельвета, рубчик глажу, ворс... из весны да в лето быстрый, бурный рост... что придёт на память через призму лет? нашей встречи пламя?.. трав зелёных след?.. 15 апреля 2015
|
|
Алле Пугачёвой... Алле Пугачёвой я сказал бы: чё вы? чё вы не поёте на мои стихи? спойте со мной вместе для моей невесты, на весь мир в улёте - выстегнем эфир! и вернётся слава к Пугачёвой Алле! под ангажементы, свадебка и пир! доля станет сладкой - в первой-то двадцатке! свадебные ленты, лучший ювелир! не молчи, певица! пусть тебе приснится, что поём мы песни на мои стихи... сперва в темпе вальса, а в угаре сальсы, кончим песню вместе, громко... для глухих! 18:39 15.04.2015
|
Лебединая шейка... она так в струнку ножку поднимала! меня обворожил прямой шпагат... мне не хватило чувств, глаз было мало, влюбился с ходу, стоит полагать! сканирую чем есть: двумя глазами - залюбовался лучшим из всех мест! весь фокус, что целительным бальзамом, то место, за что любят всех невест! люблю через неё я все балеты, люблю полюбоваться фуэте... я только в первый ряд беру билеты, виднее здесь - глаза уже не те...
|
|
|
Сани уж поданы! не лапай мысли грязной пакшею, судьба сдала мне карты младшие... сижу на жизненной обочине, повеселиться люблю оченно... не вышел рылом я в профессоры - не протирал штаны я чреслами... не доводил себя до клиники, по темпераменту сангвиник я... мне б, как профессор, приосаниться... но свои сани больше нравятся... повеселиться люблю оченно, покувыркаться с его дочерью... есть дни, проверено на практике, что можно и без профилактики... я нравлюсь очень его дочери, с ней практикую, между прочими... 7:02 21.04.2015
|
Ладообладание... не слушай речи мои сладкие, мой голос с сиплою прокладкою... не гладь небритости и мускулы, у мускул - интересы узкие... ты не гонись за моей ласкою, в свою постель не перетаскивай... в своих фантазиях я вычурен - ложбинки все твои я вычленю... ложбинки, щёлки и набухлости, и с губ твоих слижу все глупости... покрою грубыми цитатами - при близости ругаюсь матом я... ты не люби меня, красавица - мне обладанье только нравится... и после ладообладания всем говорю я: «до свидания!» 9:12 21.04.2015
|
Любовь мою... любовь мою, просто прими, как жертву... любовь мою из снов... не сожалей, что я не тот, а некто - не потрясу основ... где смерти нет, там не измерить верность и искренности чувств... глаза мои, запорошил их Эрос, важнейшим из искусств... любовь моя к тебе чиста, как росы... со смертью не умрёт... любовь мою, прими как жертву, просто... прими из года в год... люблю тебя, мой ангел, всё сильнее и чище всех в разы... люблю тебя, своим сердцебиением, движением слезы... любви к себе, как жертвоприношения, не требую взамен... прости меня, за дерзость отношений, за чистоту измен... 2:00 20.04.2015
|
Любимая приди... пробил час свидания, всё накалено... с мига расставания вечности кино... жду тебя, любимая, в грёзы унесён... сердце с твоим именем бьётся в унисон... в полумраке утреннем предложу интим... держу порох внутренний со вчера сухим... поцелую пальчики, губки укушу... я такой запальчивый, свой запал гашу... чмокну щёчки, в губоньки сунусь с языком... и взорвёмся грубо мы в порохе сухом... поцелую пальчики, в ушко шу-шу-шу... я такой запальчивый, жду... приди, прошу... 6:08 22.04.2015
|
Да не... не люблю - так верят мне, а люблю - так не... повидал - немеряно баб в телеокне... с Дашей я б поужинал, но наедине... ужин нужен с суженой, всех сомнений вне... с Дашей я б поужинал, тет-а-тет, приват... любовался б суженой, уложив в кровать... я б ей стал подушкою, руки - колыбель... стал бы ей игрушкою, верной, как кобель... баю-баю-баюшки... клювик мой сопит... я прилёг на краешек - happy end... рапид... 8:35 22.04.2015
|
Без нот... к чему истерикой и хрипами рвёшь душу? бросаешь свой айфон и чемодан в окно? сплин по Нева-реке сплавляет в наши уши вечерний саксофон без устали, без нот... в зияюшем окне очередной спектакль... там чьи-то тени образ создают... с собой наедине вдруг саксофон заплакал, пройдя сквозь стены и, украв уют... ему не верь пока! не вылетай наружу... скажи, чем лучше с ним, скажи чем лучше он? грустна Нева-река... там дождь наплакал лужи, и под рингтон басил вечерний саксофон... 15:15 23.04.2015
|
все люди планеты делятся на три категории: 1. счасливцы/ицы, которым посвящены стихи гения! 2. те, кто от чтения стихов гения пребывет в глубоком литературном экстазе. 3. несчастные завистники, завистницы-брошенки мною, непоцелованные богом, для того, чтоб попасть в первые две категории. P.S. утешительное: ДРУЗЬЯ, не ведитесь на бред анонимов! Скиф-азиат ЛЮБИТ ВАС всех!
|
Рэд мачо перец... спозаранку Даши разгляжу красоты... телевизор глажу в раз, наверно, сотый... наэлектризован, увлечён мачистски... глажу эрозоны, трогаю за сиськи... поцелую ногу в области лодыжки... дёрнулась немного, учащённо дышит... между нами искра будто пробивает! измусолю икры - пока ток играет! вздрогнет... от щетины сокращенья в прессе... чувствует мущину в низком тёмном лесе... лишь бы тока гады свет не отключили! жигану отраду красным перцем чили! 8:54 24.04.2015
|
*** Человека для... «Сколько веры и лесу повалено...» (Владимир Семёнович Высоцкий, 1968 год) «...И ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ НУЖДЫ, ЧТОБЫ КТО УЧИЛ ВАС»; (1-е Иоанна 2:27) "Вечерние ветры Вишневый цвет обрывают, И людям, и миру Говоря: «Не страшитесь смерти»". (Мисима Юкио) «...но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твоё было не вынужденно, а добровольно». (К Филимону 1:14) «Казачьему роду нема переводу» (Народная поговорка) *** хорошо ли, плохо, что зерно умрёт? что цветок гороха после смерти ждёт? кто цветок красивый превратит в стручок? высушит чья сила из стручка сочок? кто засеет поле человека для? чья волна, чья воля? чем добры дела? хорошо ли, плохо, кому лучше знать? в куколке иссохнуть или полетать? хмурая личина, кокон - человек... скрыл первопричину в мудрой голове... 10:49 25.04.2015 *** «ОТ ОДНОЙ КРОВИ Он произвёл весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределённые времена и пределы их обитанию...» (Деяния 17:26) «И сказал им: суббота ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, а не человек для субботы»; (от Марка 2:27) «Бог, сотворивший мир и всё, что в нём, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живёт и НЕ ТРЕБУЕТ СЛУЖЕНИЯ РУК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, [как бы] имеющий в чём-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё». (Деяния 17:24,25) «...так как Сын Человеческий НЕ [ДЛЯ ТОГО] ПРИШЁЛ, ЧТОБЫ ЕМУ СЛУЖИЛИ, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. (от Матфея 20:28)
|
Нет двух ворот, что вели бы к правде и кривде. Великий путь возвращает к истокам сердца. Пятидесятипятилетний сон. Пробужденье. Проснувшись, я возвращаюсь к истоку единства. (Акэти Мицухидэ)
|
О, да! в сторону других, даже не смотрю давно очень... каблучок ноги Даши - и не надо ног прочих! ясных глаз дуплет - пики... голос - вряд ли есть лучше... не смотреть вослед - дико! от идей горят уши... посмотрю вдогон - плачу... это радости слёзы... жжёт любви огонь мачо... ритм сердца стих в прозе... я её люблю очень... я её люблю сильно... от неё хочу дочу... и богатыря сына! 3:57 26.04.2015
|
Eikon * эх, писать бы с неё лики! поелику глаза - пики! как с иконы её очи... как у девы, у непорочной... эх, лобзать бы её губы! жемчуга! белый снег - зубы... чтоб сугубую жизни ектению * проводить с ней в любви хотении... эх, хочу так её дюже! занемог! стать хочу мужем! помолюсь под водой в душе... от души божеству в уши... *** * eikon (греч.) - изображение, образ, подобие; * ekteneia (греч.) - протяжённость. 8:22 26.04.2015
|
eikon ► ei kon ► яйцо кон ► конь-огонь ► концентрация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Я согласен! я женюсь! согласен! скрепим узы с пассией... пальцы вденем в кольца, что с тех денег пользы? изнывая песней, каравая треснем! без наряда, в шортах... сядем рядом, с тортом! и шампанским брызнем! арестанты жизни... * passion (франц.) - предмет любви, страстьи, возлюбленная. * жизнь = из ны 7:01 27.04.2015
|
Медовый месяц... этой ночью месяц лучистый, подслащённый скрипкой сверчка, разливался монетой чистой, светом липового медка... левым оком небесной механики ночь приглядывала вполглазка, чтоб буян-гармонист полупьненький, сапогом не расплющил сверчка... половинка медового пряника так похожа на край языка... не держи гармониста в предбаннике, цветом липы дразня свысока... мне не спится все ночи весенние... как бы с ней заморить червячка?.. полюбил я цыганку Есению... так хочу её... взять за бока... 2:42 28.04.2015
|
|
Отель... «...Иль так смущает вас вид обнаженной шпаги? Стыдливость милая!..» (Эдмон Ростан) *** о теле милой все мечты в отеле... ведро со льдом... шампанское... цветы... свеча дымила, милая финтила... казённый дом... дорога дальняя, но ты... но ты не пришла на Фонтанку, а то б пузырьки ворошила... про вишни читал бы я танку... про шпили, штыри, и про шила... 11:40 28.04.2015 (самый высокий отель «Изазии», Санкт-Петербург)
|
Под счастливой звездой... и за что мне такая оказия? теперь хочется выглядеть лучше... в Петербург собираюсь из Азии, это слаще верблюжьих колючек... это лучше солёной тарани и вкуснее всей здешней чурчхелы, я в предсердие нежно был ранен, а теперь, точно ёжик, весь в стрелах! каждый выстрел вбивал Дашу в душу, сделал Эрос меня дикобразом, будто я для иголок подушка, не промазал, зараза, ни разу... стала в сеточку летняя майка, теперь может служить нам дуршлагом, я люблю тебя Дашенька, зайка! сердца клочья пусть реют, как флаги! 6:10 29.04.2015
|
До конца... доведу до конца это дело, пусть любить мне тебя запрещают... докажу нежным словом и телом до кончины любить обещаю... чтоб корона с тебя не слетела, чтоб завистницы вслед не пищали, осажу нежным словом и тело защищу от свинца из пищали... я тебя зацелую, изнежу, в борщ изрежу щавель тягомотин... из редчайших чудес, ты всех реже! разнесу от ворот повороты! треск огня рассыпается в искрах, соловьи и дрова оттрещали... просыпайся, любимая киска, позабудешь со мной все печали... 8:13 29.04.2015
|
|
|
Моя цыганочка... эх, ты, дари, дари-дари-дари-я... дари-дари-дари-да... ..................... ..................... каблуки подняли пыль, ритмы бьют, удары... я люблю старинный стиль, перебор гитарный... блестит свежий лепесток, прорастают травы... моё сердце в решето... в зарево кровавое... полюбил красавицу... полюбил девицу... как мне ей понравиться, чтобы ожениться?... нету в мире лепестков и свежей и краше... на душе моей легко, когда вижу Дашу... у неё на сердце штиль, мне в нём нету места... ей в глаза пускаю пыль: стань моей невестой! мне б уйти с цыганами, с кочевой кибиткой... от любови пьяный я, сердечко разбито... эх, ты, дари, дари-дари-дари-я... дари-дари-дари-да... ..................... ..................... переборы и щипки, да шлепки по деке... попрошу её руки: стань моей навеки! 6:10 30.04.2015
|
|
|
|
эх, ты, дари, дари-дари-дари-я... дари-дари-дари-да... ..................... ..................... каблуки подняли пыль, ритмы бьют, удары... я люблю старинный стиль, перебор гитарный... блестит свежий лепесток, прорастают травы... моё сердце в решето... в зарево кровавое... полюбил красавицу... полюбил девицу... как мне ей понравиться, чтобы ожениться?... нету в мире лепестков и свежей и краше... на душе моей легко, когда вижу Дашу... у неё на сердце штиль, мне в нём нету места... ей в глаза пускаю пыль: стань моей невестой! мне б уйти с цыганами, с кочевой кибиткой... от любови пьяный я, сердечко разбито... эх, ты, дари, дари-дари-дари-я... дари-дари-дари-да... ..................... ..................... переборы и щипки, да шлепки по деке... попрошу её руки: стань моей навеки! 6:10 30.04.2015
|
о Джугашвили и Ульянове. Всё, не будем о грустном. Победа всё-таки. Чуть-чуть примем - как положено. У меня дядька прошёл всю войну. А в альбоме - рядом две фотографии: 1944 - дядя Миша с автоматом, Югославия, рядом фото ваш. покорного слуги - с таким же автоматом на учениях в ТуркВО (между Аралом и Каспием), 1962 г. Вот сейчас глянул и полегчало. Всё-таки, связь времён вовсе не распалась. Не дождётесь, - бросатели грязи на вентилятор.
|
|
каблуки подняли пыль, ритмы бьют, удары... я люблю старинный стиль, перебор гитарный... блестит свежий лепесток, прорастают травы... моё сердце в решето... в зарево кровавое... полюбил красавицу... полюбил девицу... как мне ей понравиться, чтобы ожениться?... нету в мире лепестков и свежей и краше... на душе моей легко, когда вижу Дашу... у неё на сердце штиль, мне в нём нету места... ей в глаза пускаю пыль: стань моей невестой! мне б уйти с цыганами, с кочевой кибиткой... от любови пьяный я, сердечко разбито... эх, ты, дари, дари-дари-дари-я... дари-дари-дари-да... ..................... ..................... переборы и щипки, да шлепки по деке... попрошу её руки: стань моей навеки! 6:10 30.04.2015
|
каблуки how to get a bigger butt подняли пыль, ритмы бьют, удары... я люблю старинный стиль, перебор гитарный... блестит свежий лепесток, прорастают травы... моё сердце в решето... в зарево кровавое... полюбил красавицу... полюбил девицу... как мне ей понравиться, чтобы ожениться?... нету в мире лепестков и свежей и краше... на душе моей легко, когда вижу Дашу... у неё на сердце штиль, мне в нём нету места... ей в глаза пускаю пыль: стань моей невестой! мне б уйти с цыганами, с кочевой кибиткой... от любови пьяный я, сердечко разбито... эх, ты, дари, дари-дари-дари-я... дари-дари-дари-да... ..................... ..................... переборы и how to make your dick bigger щипки, да шлепки по деке... попрошу её руки: стань моей навеки! 6:10 30.04.2015
|
о Джугашвили и Ульянове. Всё, не будем о грустном. Победа всё-таки. Чуть-чуть примем - как положено. У меня дядька прошёл всю войну. А в альбоме - рядом две фотографии: 1944 - дядя Миша с автоматом, Югославия, рядом фото ваш. покорного слуги - с таким же автоматом на учениях в ТуркВО (между Аралом и Каспием), 1962 г. Вот сейчас глянул и полегчало. Всё-таки, связь времён вовсе не распалась. Не дождётесь, - бросатели грязи на вентилятор.
|
Но не будем о грустном. Домби приходят и уходят. А май, как и дембель - неизбежен.
|
|
Ну не уподобляйтесь Домбровскому. Он не сплошь дубоватый. Сталин таки бандит. (А Д-й его именно так обозвал.) Меня в его бандитизме окончательно убедил его секретарь, Бажанов. Вот почитайте http://lib.ru/MEMUARY/BAZHANOW/stalin.txt Насколько этому Бажанову можно верить? – Вопрос, конечно. - Я начал его читать, где-то наткнувшись на его слова, что Сталин ничего не читал: «Сталин малокультурен, никогда ничего не читает, ничем не интересуется». Тогда я заподозрил враньё, потому что где-то когда-то прочёл или слышал, что он прочитывал по 300 страниц в день постоянно. Из-за такого расхождения я стал Бажанова читать. Он приводит такие штрихи, что как-то вершь. Тем паче, что бандитизм его сходится с читанным мною ранее исследованием Похлёбкина http://www.libok.net/writer/1649/kniga/9530/pohlebkin_vilyam_vasilevich/velikiy_psevdonim/read/6 Другое дело, что Д-й предлагает, так я понимаю, Сталина вычеркнуть отовсюду. – Это, конечно, чушь. Почему? Отвечу длинно. И отталкиваясь от слов Путина, что вопросы геополитики вообще вне идеологии. Это не так. Потому что так вышло, что российский менталитет плохо подходит к капитализму. А это уже момент идеологический. То есть с провалом коммунизма идеологический раскол в мире не исчез, ибо, стремясь сохранить менталитет своего народа, Россия объективно выступает за коммунистическое будущее. Пока это у власти осуществляется довольно строгим соблюдением внесённого в Конституцию положения, что государство – социальное. (Вспомните хоть про моногорода в прошлый кризис.) Идея социального государства взята у Запада. Но со времён Тэтчер идёт отказ от политики социального государства. А Путин – наоборот. – То есть ПОЧТИ идеологический раскол. Что и обусловливает главные черты политики Запада по расчленению России (продвижение НАТО на восток, ПРО, оранжевые революции). А раз и геополитика оказалась с идеологией, то и достижения Сталина в геополитике не должны быть ни забыты, ни, тем более, полностью обхаяно его имя. У него есть то, за что им гордиться нам, при всём бандитизме его характера. Если таки будущее землян – коммунизм (не марксов, с опорой на неограниченный материальный прогресс), то геополитика сохранения России, ментальность которой лучше всех годится для коммунизма (каждому – по РАЗУМНЫМ потребностям), должна чтиться ВСЕГДА. В том числе и сталинская политика по сохранению страны. Та часть его политики, которая объективно страну сохранила. И – Д-й не прав.
|
Насколько этому Бажанову можно верить? – Вопрос, конечно. - Я начал его читать, где-то наткнувшись на его слова, что Сталин ничего не читал: «Сталин малокультурен, никогда ничего не читает, ничем не интересуется». Тогда я заподозрил враньё, потому что где-то когда-то прочёл или слышал, что он прочитывал по 300 страниц в день постоянно. Из-за такого расхождения я стал Бажанова читать. Он приводит такие штрихи, что как-то вершь. Тем паче, что бандитизм его сходится с читанным мною ранее исследованием Похлёбкина http://www.libok.net/writer/1649/kniga/9530/pohlebkin_vilyam_vasilevich/velikiy_psevdonim/read/6
|
|
Ты на пятом... ты на пятом, я на пятом, ты в умате от примата... в небе матовые тучи... с ума сводит лучи случай... этажи, каналы, пальцы... птицы, щебет, гнёзда, яйца... мануально, коготками... годы... вёсны... шелка, ткани... экспонаты... нельзя, можно... быть на «ты» небезнадёжно... времён дали крупным планом поедал глазами... ранен серебром дождей в ресницах... спать хочу... хочу... не спится... слышен мат, собачьи кучи... экспонат... не спиться... лучше... облака, обманы, кручи... эскадрон гусар летучих... улетаю... слишком тучен... за окном собачьи свадьбы... не женюсь, так надкусить бы... 7:54 18.05.2015
|
|
|
Цыганочка... зычный Дашин голосок для меня музы́ка... эх-х, дрожи, гуляй басок, толстой стрункой вжикай! раскаляется заря, блестят Даши глазки... струн души́ не трогай зря, ласкай да заласкивай! сквозь кудрявы облака лучик прорывается... ей по нраву струн накал - Даша улыбается! переборы, переборы, стоны струн, рыдания... Дашу прячут за забором в высоченном здании... эх-х, коснуться б её рук, пальчиков красавицы... целиком её упру... оторву... вся нравится! лезу в терем у реки, двери заколочены... получу её руки хоть через пощёчину! 4:49 19.05.2015
|
Здравствуй город на Неве! почему я втюрился в лучшую из баб?.. накачу 100 грамм винца, чтоб включить нахрап... здравствуй город на Неве! тормози «Сапсан»! я б остался и в Москве, но здесь втюрился... наловлю, пока идёт, рыбки-корюшки... прибыл в самый икромёт - наполняй мешки! за её улыбку, что так светится, буду слать ей рыбку, просить встретиться! всё ей рыбкой завалю сыровяленной... чтобы знала - я люблю как ужаленный! размечтался, нос в вине, мысли пчёлками... знает город на Неве Дашу с чёлкою... всех девчонок красивей моя милая! подступиться как мне к ней? в лоб ли, с тылу ли? я с нахрапом, ну, wie Pferd, сильно втюрился! в бездну шаг - да будет твердь! шаг... зажмурился... 10:55 19.05.2015
|
Разлюбить? разлюбить не получится, пробовал... жги словами колючими наповал... подвергай, издевайся, запытывай! посмотри аусвайс - был упитанный... а теперь под глазами отёки... замерзаю я на солнопёке.. я дрожу от любви, весь задёрганный... заразила меня гутенморгами... прихожу посмотреть каждый утренник... будь моим, хоть на треть, носик пудренный! как диета любовь «хоть на треть»... помогает морковь натереть... на чуть-чуть... хоть на толику малую... шар берут твои руки усталые... гороскоп, что пасьянс, как уложится... карты скопом... надеюсь... всё сложится... 9:13 20.05.2015
|
|
жги своими колючками губ овал...
|
|
в моих мыслях бушует торнадо, но прошу вас покорно, не надо торкать пальцем прямым, как эректор, в свой висок и крутить им повторно, обозначив движением сектор, где реакции нет рефлекторной...
|
|
Хорошая моя... все те цветы, что срывал, мною брошены... их позабыл нежный запах и вид... жизнь открывает мне что-то хорошее... слизну с губы её крем и бисквит... снова наутро приди моя сладкая, платьицем новым меня обольсти... твой перламутр так и блещет загадкою, держит в оковах любовный мой стиль... серьги с отливом, с окраскою радужной, губ перламутр, ноготков маникюр... сердце спалила страсть жгучая к ладушке... блин с маслом утром горяч чересчур... 9:48 21.05.2015
|
(Благая весть от Луки 6:45)
|
Я УЖЕ ПУБЛИКОВАЛ ЗДЕСЬ, в РП, ранее, но повторно для тех кто в бронепоезде, в танке да и просто для людей интересующихся: *** И́диш (יידיש, ייִדיש или אידיש, и́диш или йидиш — дословно: «еврейский») https://ru.wikipedia.org/wiki/Идиш *** Мои изыскания для здравомыслящих: ...на мой взгляд, жиды (евреи), наполняя слово «жид» негативным содержанием, сродни унтер-офицерской вдове, которая, как известно, сама себя высекла... вероятно это происходит из-за неправильного прочтения, включаем мозг и читаем справа ► налево, по-арабски... ИДИШ ► ЖИДЫ (зеркально) ...а негативный смысл, скорее всего, появился у малограмотных евреев из-за созвучия с английским словом «shit»... (Александр Торопов) *** ИНЕРЦИОННЫЙ ПРИНЦИП БАРРА Попросить группу учёных пересмотреть их теорию — это всё равно что попросить группу полицейских пересмотреть закон. ЗАКОН СТОРМЕНА Идея не несёт ответственности за людей, которые в неё верят. (Артур Блох)
|
|
Три буквы... Окину взглядом акына Историю русских слов: Из стари слово сильно, Сила - основа основ... Личностью был одарённой Владимир Иванович Даль, Словарный запас ядрёный, Сокровищницей издал... Не угодил лишь евреям, «Жидом»* их не угадал... Режут «Словарь» идейно... Владимир Иванович Даль... Кромсают Слово Живое Великорусскаго... Урезали... втрое... вдвое... Великаго на рога... Кто не то скажет: «Три буквы»... Дело-то: «Медный пятак»... Дашь палец - отхватят руку, Останешься аки наг... Резальщикам попускаем - Тянут свои клешни... Скоро своих не узнаем... Спаси Слово и Сохрани... *** * жид - стар. народное название еврея, 3-е издание Толковаго Словаря Живого Великорусскаго языка. © Copyright: Звук Урчания Кота, 2014 Свидетельство о публикации №114071701811
|
«Бодуэновский словарь Даля». 3-е издание. http://www.runivers.ru/lib/book3178/10117/ Всего томов 4
|
«Бодуэновский словарь Даля». 3-е издание. http://www.runivers.ru/lib/book9793/ Всего томов 4
|
Будь моей... самое главное: мне с тобой весело, хоть до сих пор ты пока не моя... вроде бы за, но я жду чтоб всё взвесила, чтоб не испортить всю свадьбу зазря... узел запутанный, переплетение всех обстоятельств признаний в любви... в твоих глазах тону, хочу со рвением попасть в объятья моей визави... фокусы-покусы, фокусы с масками в прошлом оставим и будем любить! снять помогу трусы́ укусом ласковым, точки расставим над всеми «i»! всю информацию об этом празднике будем в секрете держать до поры... чтобы не мацали нас в «одноклассниках» разные эти чужого воры'... 9:53 22.05.2015
|
|
|
|
На «перетопчемся без них как нибудь». Да, этот журнал русских националистов. Да здесь не удаляют антисемитских выпадов в ДК (где это удаление технически возможно). Да я сам русский националист. Но не такой, как вы. Я считаю что русскому выгодно, чтоб его страна оставалась (какой всегда была) многонациональной. Поэтому я думаю, что не перетопчетесь – ваши антисемитские выпады сотрут, если и не сейчас, то в какой-то другой раз, когда модераторы воспитаются. А они воспитаются. Всё-таки это РФ. А в ней есть закон против вас, антисемита, и против органа ваши выпады антисемитские не стирающего. Да. Законы в РФ действуют плохо. Но вы всё равно не перетопчетесь, потому вы враги России со своим антисемитизмом. Россия всех своих врагов пока побеждала – победит и вас, антисемита.
|
арабы мне нравятся в отличие отваших соотечественников, так что разработайте поконкретнее "закон о любви и нелюбви к евреям" и предложите его в ГД
|
|
|
что же, тогда придётся закрывать всю ПОЛЕМИКУ! ...ибо и это иноземное слово трактуется "враждебность"
|
«Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». *** ...так вот пользуясь правом иметь «УБЕЖДЕНИЯ И ДЕЙСТВОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НИМИ» я позволяю себе любить или нелюбить, а также «РАСПРОСТРАНЯТЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ И ИНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ И ДЕЙСТВОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НИМИ»... ниже приведу тексты Святых Писаний и русских писателей... *** (фрагмент) Иль не для вас всходил на крест господь И дал на смерть свою святую плоть? Смотрите все – он распят и поныне, И вновь течет его святая кровь! Но где же жид, Христа распявший ныне, Продавший вновь Предвечную Любовь? (Фёдор Михайлович Достоевский) «Из уважения к искусству и к его лучшим представителям мы не решились бы никогда посягнуть на такое капитальное обвинение, между прочим, и по совершенной невозможности стать в положение судьи чужой совести и её сокровенных убеждений» И. А. Гончаров «„Христос в пустыне”, картина г-на Крамского» (1874) *** ...для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? (1-е Коринфянам 10:29)
|
Только пискни... изощряясь в манерах изысканных, про билет на концерт ты спросила, голос твой верхней нотой попискивал, но местами ты даже басила... взляд горел твой неистовым пламенем, я шутил, ты смеялась дискантом... ты и я, а вокруг всё, как замерло... взял тебя я цитатой из Канта... предложил я продолжить симфонию, увлекая её за фигуру... предложил на её территории дописать голосов партитуру... мы от писка дошли до контральто, голоса зазвучали божественно! повороты, скачки́, даже сальто... и соскок был воистину женственен... 7:14 24.05.2015
|
«Когда Цзинь-хуа кончила, он, как будто опомнившись, зажег спичку и закурил душистую сигару. И, нарочно приняв заинтересованный вид, выжал из себя вопрос: – Вот как… Странно. И ты ни разу с тех пор не болела?» (Акутагава Рюноскэ, фрагмент, «Нанкинский Христос», 22 июня 1920 г.)
|
«Поэты нам поведали легенды, но сами от кого узнали их? Мы в тупике. А норманны, заслышав гром грозы, действительно ли верили, что слышат молот Тора?» (Оден Уистан Хью, август 1973, фрагмент «Археология»)
|
Грустная... вот казалось бы, что в твоём образе? а не вижу и нет уж мне жизни... отыщу я твой город на глобусе, пальцем ткну и спиртным даже взбрызну... а потом захочу я компании и друзей приглашу закадычных... попрошу их принять во внимание, что закончился ящик «столичной»... побрынчу на гитаре без радости, про «Катюшу» спою на японском... без тебя в кухне некому подмести и отмыть тряпкой грязные доски... вот казалось бы, утро без кофе... ну неделю, ну месяц... а дальше? в этом смысле, дела мои плохи, возвращайся любимая Даша... 5:36 25.05.2015
|
(Ф. И. Тютчев)
|
Доля в праве... «То есть всё, что есть Япония вместе со всем, что и не есть Япония и вовсе есть не Япония, захватывая рядом и нерядом лежащее. То есть она уже не есть Япония. Вернее, есть не Япония, но — возможность Японии в любых обстоятельствах и точках пространства». (Пригов Дмитрий Александрович «Только моя Япония») «...умножая умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей...» (Бытие 3:16) «...лисицы имеют норы, и птицы небесные - гнёзда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову». (Благая весть от Луки 9:58) (Благая весть от Матфея 8:20) «Откуда мне знать, что привязанность к жизни не есть обман? Могу ли я быть уверенным в том, что человек, страшащийся смерти, не похож на того, кто покинул свой дом и боится вернуться?» (Чжуан Цзы) *** и всяк зверёк с крупашкой насекомым, и всякая другая божья тварь, найдёт себе приют - везде как дома! бездомен человек - «природы царь»!.. вот муха не берёт себе билета в воздушный лайнер, поезд скоростной... в любую точку мира, там где лето летает провести свой выходной... никто не обещал ей там жилища, но муха, видно совестью чиста, везде найдёт приют и долю в пище, хотя не в «избранных»... и нет на ней креста... ей роды нипочём, эх-х, муха-мама! у сумчатых - то тоже не вопрос! «природы царь» - дитя в 5 килограммов! скрозь дырочку, похожую на нос! земля сначала диск, попозже шарик... сомнительны все знания про нас... горшок из глины плохо кашеварит, да зуб неймёт, да худо видит глаз... у каждого их нас тут доля в праве, но «правд» так много, сколько и идей... пускай же здравый смысл нам не отравит «религиозность» «избранных» людей... 8:19 26.05.2015
|
Тёплые капли... в воздухе за́пах дождя и цветения... небо в пастельных тонах... первые капли штрихи светотени пишут на белых стена́х... доброе утро! - хочется вскрикнуть! ветку сирени склонить... в памяти недрах любви не сгинуть - вижу незримую нить... этой слезы на припухшие губы мне не забыть никогда! из-за грозы в водосточные трубы хлынула с неба вода... дождик смывает солёные слёзы... выйдешь сухой из воды... что же, прощайте горячие грёзы... здравствуйте, белые льды... 5:33 27.05.2015
|
(Основной Закон РФ, статья 29, часть 3)
|
|
|
Мимо... мимо носятся птицы и мыши, чуть бледнеет пастельный рассвет, я, как Карлсон, гуляю по крыше, каркнул ворон вороний привет... прилетел воробей, сел на ветку, мне весеннюю песню пропел... помнят птицы... кормлю я их редко, но и этим их сердце задел... прилетают сказать мне «спасибо», хоть головка с мозгами мала... где-то я прочитал, даже рыба, себя гладить, как кошка, дала... не могу надышаться озоном... ни курящих машин, ни людей... пахнет липой... не одеколоном от напыщенных, странных ледей... 4:47 28.05.2015
|
Зашли незванные гости и были выбоины... героям событий 12 февраля 1988 года в Чёрном море посвящается... *** лью водку в стопки под воспоминанья как мы готовы были умереть... намнём вам холку, хищные пираньи! корму вам перцем, что ли, натереть? мы сторожим свою родную землю и охраняем наши берега... любой нажим врага нам неприемлем - ловите гады, якоря рога! помят слегка большой ракетный крейсер, его ведь в гости к нам никто не звал! на их бока в их «дружественном» рейсе наш «Беззаветный» совершил навал! на Чёрном море вспомним это имя... тех, кто на деле доблесть добывал... . кто с нами спорит рейсами такими пусть помнит «Беззаветного» аврал! лью водку в стопки под воспоминанья... в любой момент готовы умереть... ответ неробкий подтвердил названье и перед нами спасовала смерть... 7:42 29.05.2015
|
|
|
|
По материалам forum.sevastopol.info/viewforum.php?f=22
|
|
|
|
я купаюсь в лучах славы в этом деле я рублю я вам под Акутагаву, всех девчонок залюблю
|
|
Цыганское золото или Взятки гладки... полоскала меня ты ласкательно: глас из гласных, согласных, «й» кратких... я внимал тебе слухом внимательным, разгадала загадку - я гадкий! я тебе не гожусь и в подмётки, подметать я полы не умею... как, в «Незнайке», жру водку с селёдкой, и любовь... всего лишь - ахинея... я похож на «цыганское золото», так звучали твои аргументы, что со мной ты подохнешь от голода, не дождавшись себе алиментов... да иди ты, индиго, на ауру! - мне без слов ты в глаза говорила... на диван лёг пластом, словно аурум, лёг к стене, отвернув своё рыло... всё равно для меня ты - хорошая, как подарок завёрнутый в ленты... на диване лежу сереброшенный: кто я? аурум или аргентум? 11:09 30.05.2015
|
|
Контрольный выстрел... мой последний патрон в барабане стал как вкопанный против ствола... я убит наповал утром ранним, так звоните же, колокола! я убит, ослеплён красотою, я повержен, я скован, взят в плен... появиться лишь только ей стоит, не свожу глаз с её я колен... а она, догадавшись наверно, что в неё я так нежно влюблён, с напускным безразличием скверным, смотрит взглядом, ценой в миллион... я дрожу, хоть бывал в переделках, как у кролика, нос мой дрожит, сердце носится быстро, как белка, как же дальше на свете мне жить? околдован малиновым звоном, что звучит в голове от любви... от щедрот - только ласк миллионы, денег нету, хоть где поскреби! не оставил Амур других средств мне, надо мной посмеялся любя, подыскал мне такую невесту, как последний патрон «для себя»... 7:48 31.05.2015
|
предположим, процент евреев среди Апостолов 100%, делим на 12 штук евреев и получаем 8,33333333333333333333% приходящихся на потенциальных предателей модели «Иуда Искариот».
|
|
Я гребу на лодочке... на примете у меня есть девчонка славная... ветер волны нагонял, но самое главное: я гребу на лодочке, взмахиваю вёслами... за своей красоточкой я вьюном ухлёстывал! не шуми, хочу узреть, не скрипи, уключина, скрыто водами на треть всё самое лучшее... я гребу на лодочке, взмахиваю вёслами... я свою красоточку сравниваю с звёздами! раздвигаю камыши, а сердечко ёкает: там купается в тиши близкая-далёкая... я гребу на лодочке, взмахиваю вёслами... я свою красоточку сравниваю с вёснами! я сижу за камышом, воды ветром взмучены... её вижу голышом - мои чувства вспучены! подгребу по-тихому, спрячу платье пёстрое... и свою красоточку залюблю по-взрослому! 4:36 01.06.2015
|
|
|
Не люблю... «Все говорят, что — не красавица, — А мне такие больше нравятся...» (Владимир Семёнович Высоцкий) *** не завелись... я и она, мы оба... ты не бесись, как ржавый механизм... не завелись... отторгнута особа - без сись не принимает организм... я не люблю пустых внутри обёрток и с мясом без начинки пирожков... один твой плюс обёрнут туго в шорты, но Нинке уступает 100 очков... 10:18 02.06.2015
|
|
Но что сказал по этому поводу Валерий Васильевич Куклин? Каково мнение самого выдающего знатока библейских сюжетов современности? Валерий Василич, объясните трудящим! Не увлекайтесь излишне надписями на стенках рейхстага! Прошла мода! Иные времена, иные надписи. Пишите сюда! И вообще, как жив здоров? Что ваяешь для потомков? Порадуй!
|
|
|
Пыхнули звёзды... стелется, стелется туч пелена, было всё ясно и вдруг тебе на... вспыхнули звёзды, погасли угли, мы костерок уберечь не смогли... бледная, бледная светит луна, горькая, горькая в горле слюна... щиплется, щиплется едкий дымок, в звёздный над нами... в звёздный плюёт потолок... там на далёкой холодной звезде, может быть лучше, чем здесь в тепле... может быть лучше, а может нет... тает дымок, исчезает и след... угли шипят, дождик заморосил, сдерживать слёзы нет больше сил... щиплется, щиплется едкий дымок, плачет холодной звезды ангелок... слёзы тепло заливают любви, что-то такое... нежной слезою убив... 7:38 03.06.2015
|
там на далёкой холодной звезде, может быть лучше, а может не...
|
Мой малыш! я так люблю, что скажи только мне, вмиг прилечу на крылатом коне! а если нет, то скажи только «кыш!» и не увидишь меня, мой малыш... вот уж не знал, что навеки влюблюсь я так люблю, что побей - я утрусь! всё же подумай, чем сразу решить, может намерена порознь пожить... в этих делах не спешат никогда, ты не газуй, не дави в пол педаль... перед глазами стоит твой сюрприз, кожи участок, что от пупка вниз... стрелки сошлись, на часах твоих ноль, сверим с моими, ты только позволь... не ошарашь, я вошёл уже... в раж... не заводи, а шепни только «да» ш!.. ш.ш.ш.ш.ш.ш.ш.ш.ш.ш.ш.ш.ш.ш.ш.ш... (треск старой пластинки) ш.ш.ш... 15:41 03.06.2015
|
Не испортишь ты мне, тварь, настроения... злым особям посвящается... *** не испортишь ты мне, тварь, настроения... закалил мне сердца сталь стих Есенина... утром злость кипит во мне Ломоносова... на войне, как на войне, злые особи... не буди во мне царя самозванного... жизнь я прожил не зазря додиванную... мой кулак меня не раз в жизни выручил... твои трюки в унитаз давно выдрочил... что назавтра только, тварь, из пальца высосешь, знали деды мои встарь, ваши в минусе... 6:47 04.06.2015
|
|
Первый дождь... не начавшись всё пошло к завершению... я испошлил, как хамло, отношения... за всё утро на меня ты не глянула... миражи водой маня, в воду канули... повторить пришлось потом упражнение... ты ловила жадно ртом тело гения... пересохшая гортань, губы в трещинах... не успела открыть рта, стала женщиной... разразились облака ливнем с громами... ты, как небеса, блага с незнакомыми... благодарен я судьбе, всё, как выдумал... покорился я тебе, сделал идола... 6:18 05.06.2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Москва - Петушки)
|
Other Link : https://www.facebook.com/OliMobilTerbaikdiIndonesiaTotalQuartz https://groups.yahoo.com/neo/groups/OliMobilTerbaikdiIndonesia-TotalQuartz/info http://olimotorterbaik-totalhiperf.blogspot.com/ http://bloggeruink.blogspot.com/ http://all-abouthealth4u.blogspot.com/ http://airsoftspringshop.blogspot.com/ http://ogep.esy.es/
|
|
|
|
Oli Mobil Terbaik di Indonesia - Total Quartz
|
|
По гроб жизни... смерть - это то, что бывает всегда... вечен лишь гроб, быстротечны года... я по гроб жизни тебя полюбил, все мои мысли любовью забил... всюду со мной, как брелок для ключей, вгляд твой живой, взор влюблённых очей... смотришь любовно, глазами маня, все слова, словно бы, для меня... лаской ты тешишь чужой объектив, этим безгрешно и мне угодив... ты не сказала ни «нет» и ни «да», (голос из зала: «вот же трында!») им не понять молчаливый ответ... ты не сказала ни «да» и ни «нет»... 7:17 11.06.2015
|
Славяне... Восславим, славяне, Ра Силу! Смотрите, вновь Солнце встаёт! Восславим, славяне, Россию! Восславим российский народ! Споёмте, как встарь, нашу Славу! Ра Силе Хвалу воздадим! России духмяные травы Пьянят дух вином молодым... Ра Сила - Великая Сила! Русь-Свет - Ойкумены Восток! С Ра Светом Любовь приходила И ждал её каждый листок... Рассветы теплом осеняли Всю сушу той древней Земли... Вот только древляне не знали, Что в дрейф континенты легли... Разорвана Русь-Ойкумена, Сыра-Земля, Мать-Материк! Великие те перемены - Земли изменившийся лик... Когда-то язык был единым, Единым был древний народ... Мы в этой истории длинной Уже разберёмся вот-вот... Восславим, славяне, Ра Силу! Восславим её благодать... Восславим, славяне, Россию! Хвалу ей нельзя не воздать... 6:47 12.06.2015
|
-- Станция Даун названа в честь кого ? - Правильно, вы догадались, читатель. В честь одного известного поэта. Вот такие пироги ... с капустой. Капуста - пусто - пусто ...
|
|
|
|
|
С вами Сва СЛАВИМ БОГА, gruess Gott! Сва - Швед - СВЕТ! СВЕТ - РУСЬ! всё было и вновь станет СВЕТОМ!
|
|
|
|
*** (фрагмент) Под славным городом под Киевом, На тех на степях на Цыцарскиих, Стояла застава богатырская; На заставе атаман был Илья Муромец ................................................. Из этой земли из Жидовския Проехал Жидовин могуч богатырь На эти степи Цыцарские!» ................................................. Недосуг Илюхе много спрашивать, Скоро спорол груди белые, Скоро затьмил очи ясные, По-плеч отсек буйну голову, Воткнул на копье на булатное, Повез на заставу богатырскую. Добрыня Никитич встречает Илью Муромца, С своей братьей приборною. Илья бросил голову о сыру землю; При своей братье похваляется: «Ездил ву поле тридцать лет, Экого чуда не наезживал» (былина «Бой Ильи Муромца с Жидовином»)
|
|
Автору: " ... 62.210.69.5] - БОГАТЫРЬ ИЛЬЯ МУРОМЕЦ из Карачарова VS ИДОЛИЩА (ИДИША) ЖИДОВИНА ..." -- -- -- - Ох, и дерьмо же ты, - П О Г А Н О Е . -- -- --
|
В ЗЕР КАЛО ПО СМОТРИ!
|
|
|
ИДИШ - ИДОЛИЩЕ - поганое место
|
|
|
|
|
|
|
наше вам с косточкой - от нашего стола!
|
|
|
|
|
|
|
Daftar Tempat Jajan Martabak paling enak di jakarta. Martabak manis & tipkernya enak, ... ada tempat namanya Martabak Bangka di Tebet Raya ,
|
Оберег... не пустил тебя муж на свидание, я и сам бы к себе не пустил... в одиночестве пил в ресторане я, в одиночестве пил и грустил... а вокруг столько глаз милых девочек, а вокруг столько славных фигур... снимок твой в брелке, стал как о́берег, запер доступ к любви очагу... одна, то ли по слабости зрения, хоть имела большие глаза, захотела меня без зазрения, и я, гад, ей не смог отказать... не подумай ты плохо заранее, и прости лаконический стиль, через час я спустил в ресторан её и Абрау Дюрсо угостил... испытал я наутро раскаяние, вдруг, пока её в номер водил, приходила ты всё ж на свидание, ты давай, не тяни, приходи... 7:45 22.06.2015
|
Знай мя, друзи! «Вдруг слабым манием руки На русских двинул он полки»... (А. С. Пушкин) *** душ холодный сверкает потоками, в каплях много так новых имён... ты играла своими флагштоками, в них так много влагалось знамён... то вложение, то вынимание - бесконечных вложений поток... а потом с вожделенным вниманием обратила свой взор на восток... ты развязной была и расхристанной шла с ватагою пьяных подруг... им восток стал последнею пристанью, но мог быть и как преданный друг... все стальные ристалища из стари русский дух наш умиротворил... и в воде и в огне дух наш выстоял, и в флагшток их «знай мя!» водрузил... 12:54 22.06.2015
|
Клин вышибал... ты мне пытаешься понравиться, меняешь каждый день наряд... идёшь ты утром в новом платьице, сводя с ума весь Петроград... несёшь все прелести по табелю, ценнейший ранг и высший балл... сложить не успевают в штабели всех кто вослед тебе упал... смотрю тебя в прямой трансляции - кровь приливает к голове, один из той же популяции, из штабелей тех на Неве... копаюсь в табеле о рангах, ты - загляденье, высший балл... в соседних стойбищах, ярангах, давно я всех пересмотрел... 7:13 25.06.2015
|
Барабан-барабан-бук... опять две старые, вертлявые гориллы, что дали Даше поиграться в барабан, её, красавицу, закрыли в оба рыла, её не вижу, вижу только чей-то жбан... а так хотелось созерцать её красоты, я ради этого поднялся в шесть часов, чтоб рассмотреть попиксельно высоты, хотя бы от макушки до трусов... а позже от стопы и до резинки, что держит пресловутые трусы, сканировать её все пикселинки, улыбку пряча в чуть проросшие усы... почувствовать себя негоциантом опять не дал мне Дашичкин канал, хотел налюбоваться бриллиантом, но перси заслонял техперсонал... 9:18 02.07.2015
|
" ... опять не дал мне Дашичкин канал, ... " == Поправьте грамматику : == " ...опять не дал мне ДашЕчкин канал, ... " Всех благ, Л.Л.
|
|
Горошая... конкуренты мои огорошены - ты сегодня такая хорошая, ты сегодня такая красивая, осчастливила позитивами... *** кофе с молоком в платье газовом, ты одна, о ком мечты разные... ты одна, о ком петь мне хочется, целовать тайком в одиночестве... губы - вишенки, глазки - ягоды... нежно выжаты жизни тяготы... ты одна, кого мне так хочется... один от того, один ночи все... 10:25 03.07.2015
|
|
к Алисе... эротично воркующим голосом описала ты главные новости... я угрюм был и даже капризен, ты спасла положенье Алиса... как покинул я чёрную полосу, не пойму, может рыжие волосы, может губы, что лишь у Алисы, занесли меня в горние выси... проникал её голос повсюду из груди её под изумрудом, упоив всё блестящим каприччио и этюдами эротичными... и шагнул я на белую полосу, загляделся на дивные волосы, взгляд скользнул потаённо везде... подберу к ней отмычку, к душе... 6:58 07.07.2015
|
Ра Сияние... верти́тся привод временной, стирает впечатлений слой... переплетён времён ремень, с ремнём на шее селезень... царевна-лебедь из зеркал, небесный свод воды взалкал, там посреди верченья звёзд впечатан бронзой неба гвоздь... утихли волны, моря гладь попытку сделала соврать... всего зеркальный поворот - всё так, но всё наоборот... ворота своротили воры, разбили сердце наших створок - изгиб влюблённых лебедей, двух половинок, двух людей... замолкли герцы двух лекал, кто верил времени - соврал... пусть вертит шейка головой, нет, чёрный ворон, я не твой! из Ра сияния стекал, мне силу жизни Ра давал! из вод воздвиг небесный свод и сушу - радовать наш род! 15:08 07.07.2015
|
Ход конём... (наброски) ВВЕДЕНИЕ ОДНОМЕРНОСТЬ (ОДНО, ОДИН) возможна только теоретически, увидеть её нельзя, а можно лишь предположить то, что ЭТО существует, точно также как и в случае с определением "бог", бог есть, но его никто никогда не видел: «БОГА НЕ ВИДЕЛ НИКТО НИКОГДА...» (Благая весть от Иоанна 1:18). ДВУХМЕРНОСТЬ в принципе невозможна (или невидима, как вам угодно), ибо любое её изображение по осям "xy" предполагает, пусть хоть и микро, но всё же слой "z", что автоматически переводит ЭТО в категорию ТРОИЦЫ: xyz (3D) и являет ЭТО перед наши ясны очи: «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, ОН ЯВИЛ. (Благая весть от Иоанна 1:18). ТРЁХМЕРНОСТЬ - это наша среда обитания, ТРОИЦА осей: xyz (3D). ХОД КОНЁМ - это исКОНИ ДВИЖЕНИЕ фигуры КОНЬ, буквой "Г" из исХОДной точки покоя, условно «0». Совокупность возможности таких ХОДов образует символ СВАСТИКА. символ СВАСТИКА - символ движения чего бы то ни было. Ход - символ «Х» (что по сути СВАСТИКА), EASILY CROSS (простой крест). ХОД (зеркально) = ДОХ, ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и ВДУНУЛ В ЛИЦЕ ЕГО ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ, и стал человек душею живою» (Бытие 2:7). ПОКОЙ - точка «0». ПРОСТОЙ КРЕСТ - координаты точки «0», ПОКОЯ (в предполагаемом невидимом одномерном пространстве). «...Если вас спрашивают: Каков знак вашего Отца, который в вас? - скажите им: ЭТО ДВИЖЕНИЕ И ПОКОЙ» (Благая весть от Фомы, 55). таким образом ВСЁ, что происХОДит, происХОДит благодаря ДВИЖЕНИЮ, ХОД ЯВИЛ, ибо ПОКОЙ ОДНОМЕРНОСТИ НЕ ВИДЕН (Ход - символ «Х»). ФОРМУЛА БОГА: «бесконечность-0+бесконечность» БЕСКОНЕЧНОСТЬ символизирует число ПИ. ПОКОЙ - точка «0». «0» с ПИ. БОГ СПИТ. ПОКОЙ. Примечание: Если ХОД КОНЁМ разрешить в ТРОИЦЕ осей: xyz (3D), то получился бы КУБ. Вертящийся куб образует ШАР. -------------------------------------------высказываться только по существу.
|
Оголец... «Так точно думал мой Евгений. Он в первой юности своей .... (Читатель ждёт уж рифмы розы; На, вот возьми её скорей!)» (Пушкин А.С.)
|
Славяне в сказах много раз подслушивали их разговоры под мостами, где они любят хвастать о разном типа клады и прочая, а в некоторых случаях и разбирали язык птиц, с волками вообще говорили как на своём... вот если сделать ДЕКОДЕР с нашего, человечьего, на птичий и наоборот тоже? я считаю что это ВОЗМОЖНО! как? очень ПРОСТО! замеряются вспышки нейронов и пишется код речи к ним, то есть ВЕРБАЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПЕРЕЖИВАЕМЫХ ЭМОЦИЙ... а далее создаётся устройство электронное, так называемый ВСХЯЗЫКОВ ДЕКОДЕР (включая рыб, и других животных)!!! ааа? наука? (комментировать только по существу, хотя эмоции дурней тоже можно исследовать в научных целях)...
|
|
Русский Царь... «У наших ворот всегда хоровод». «Не столько намолотил, сколько цепом голову наколотил». «Будь друг, да не вдруг». (поговорки)* *** свободным я буду, я сам себе Будда! мой царь в голове, голова на плечах... у нашего люда ума не убудет, не верьте молве, что могучий зачах... без здравого смысла в погибель путь выстлан, но наша смекалка в народных речах... познание истин без здравого смысла ни шатко ни валко, ни тьма ни свеча... из множества смыслов, что камнем нависли, отвергнут был здравый, в дремучесть, как встарь... у нашего люда на всё есть приблуда, свободы есть право и царь-государь... 10:58 12.07.2015 *поговорка = воркующий говор, go work (ход, работа), расхожая мораль.
|
|
Гитара... серебром звенят басы, взвизгнула оплётка, пой гитара, голоси, раздирай мне глотку! отчего да почему, как так получилось?.. я гитару к сердцу жму, крепче, чтоб влюбилась... я хриплю, глаза залил, вспухли вены в крике... я её заговорил, перешёл на рык я... дребезжат, гудят басы, верещат оплёткой... переборы пригасил, жиганул, как плёткой... кровь в артериях кипит, пощипывает ноги... сердце с сердцем говорит, а тревожит многих... я люблю тебя, хочу... плачет пиццикато... глажу струны и молчу... ночь... скрипит цикада... 19:44 13.07.2015
|
Головомногие головокружения... с неба ангелом спустилась, принесло тебя с небес... я в бассейн, как наутилус, лишь увидел тебя, влез... за удачу помолился - пропустить нельзя, моллюск... с головой к тебе спустился, как просохну, так влюблюсь... небеса тебя прислали под присмотром стюардесс... мы не злоупотребляли, но пропили денег пресс... разомкнулись наши руки - я женат, как и твой муж... сказка кончилась.. в разлуке наших чувств не обнаружь... 5:38 14.07.2015
|
-- " ... небеса тебя прислали / под присмотром стюардесс, мы не злоупотребляли, / но пропили денег пресс... -- А что? Вот она - изнанка жизни этой, где никто никому ничем не обязан. Все трепыхаются, как курёнок в бульоне. А любую фразу, любое восклицанье собеседника можно воспринимать только как БЛА - БЛА - БЛА ... И ничего более. Отсюда и к творениям сим следует именно точно так же и относиться. Мусор.
|
|
Розовая квохточка... белозубой улыбкой ты свернула с экрана, и мечте моей зыбкой соль посыпалась в раны... взять хотел тебя в Сочи на горячий песочек... камни там, голыши, к голышу не спеши... куда квохчешь, скажи? в жизнь твои миражи воплотить мне легко! квохчешь: ко, ко, ко, ко-о-о... нацарапай, штоль, лапой, может квохчешь в Анапу? на Бали?.. на Алтай? проворкуй... Гюльчатай... 7:11 15.07.2015
|
|
нацарапай, штоль, лапа, может квохчешь в Анапу?
|
Бабье лоно... «Посему дано ему имя: ВАВИЛОН, ибо там СМЕШАЛ ГОСПОДЬ ЯЗЫК ВСЕЙ ЗЕМЛИ, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». (Бытие 11:9) «...вот, ОДИН НАРОД, И ОДИН У ВСЕХ ЯЗЫК...» (Бытие 11:6) «...ИБО Я ДЕЯНИЯ ИХ И МЫСЛИ ИХ; и вот, ПРИДУ СОБРАТЬ ВСЕ НАРОДЫ И ЯЗЫКИ, и они придут и УВИДЯТ СЛАВУ МОЮ». (Исайя 66:18) *** не разделил - смешал! их Lady - наша Лада... им God - нам гад, кинь жало, гад! - кинжал! кто дал обет? кто обещал? чей промысел? - promise... смешал! смеясь, унизил... со-весть! зо-вёт! он за-вещал... за вещь держали бабу... трофеем было бабье лоно! да! dumm и выдумал! ..за коно, к торока'м - дюймовочку за жабу... огонь и меч! чем конь-комон вино-вен?! Эскалибур?! Амур?! зов крови, раскалённый бур?.. в-Ра-щение, накал, огонь?.. меч-чем! бур-руб! скала! иск-скали? - не нашли... из-скалы=руб, руда-ала латунь, це лом - шёл на шелом... вернёмся к ране, к ранке - Kranke... кресты, походы - их из-знанка! мулатки, смесь родов, метисы, от вера - раве... вниз по списку... 16:16 15.07.2015 *** СПИСОК СОЗВУЧИЙ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ: (пополняющийся из новых находок) Славлю! - I Lave You! (англ.); Вавилон (библ.) - бабье лоно, беби-лоно; Рана, ранка - Kranke (нем.) - больной; Kranker - больная; Без-умный - d-umm (нем. прилагательное); Дура, гусыня - d-umme Gans (нем. ж.р.); Утя, утка - Guete - (нем. ж.р.) сердечность, благость; Gute(s) (нем. c.р.) - добро; Гусь - Guss (нем. м.р.) - литьё, слиток; Лада - Lady (англ.) - дама, хозяйка дома, возлюбленная; Промысел - Promise (англ.) - обещать, обещание, обет; Гад (транскрипция) - God (англ.), бог, божество, идол, кумир; Ход/в-Дох (зеркально) - God (англ.), Gott (нем. м.р.) - бог; Муж, маг, магистр, мог, могучесть - moeglich (нем. c.р.) - возможность; Конь-комон - come, coming, coming-in, coming-out (англ.) - повозки, конники;
|
|
|
|
|
|
|
Красивая моя... ты меня скосила своей страшной силой, своим пёстрым платьем чуть придав ей шарм... две косички милых, кровь густеет в жилах, крепость буду брать я, страсти командарм... вырасту и стану я большим и сильным... буду знаменитым, как ансамбль «Битлз»... и познаю тайну, что под платьем синим драгоценный слиток, сдёрнув платье вниз... 6:54 17.07.2015
|
Криво, лапочка моя... отчего ты смотришь так осиротело, отчего ты смотришь только с-вер-ху вниз? моего нагого захотела тела? так бери и помни, только от..(пусти?)... криво или право я нарезал право... сикось или накось, или просто вкось... для меня превыше всех и вся держава, а огрызок просто оторви и брось... заскрипела, плача, старая калитка... заскулил на звёзды старый, верный пёс... я любил всего-то Машку, Жанку, Лидку, а к тебе случайно х.. меня занёс... не серчай, родная, что нарезал криво, сердцу не прикажешь, сильно не скучай... борозды не портит старый мерин сивый, обустроюсь только - приглашу на чай... 10:13 17.07.2015
|
Длиннобу..дылочка моя... На меня ты смотришь помутневшим взлядом, Окосел слегка я тоже от тебя... Я сегодня утром был с тобою рядом, И глядел всё утро на тебя, любя... Ты браслет свой белый то с руки снимала, То опять вдевала руку в свой браслет... Потаённых знаков знаю я немало - Тайно подавала ты любви привет... А потом, как-будто, ты меня не знаешь, Улыбнулась мило чёрт знает кому... Как же ты красиво всеми тут играешь, А владеть браслетом дашь лишь одному... 10:58 17.07.2015
|
(Сергей) ЛАЗО = ЗОЛА АРБУЗ - ЗУБРА = ЗЕБРА БОГ СОЗДАНИЕ ЛЮбви ДЕев «ИБО Я ДЕЯНИЯ ИХ И МЫСЛИ ИХ» (Исайя 66:18) «И БО(г) Я ДЕ Я НИ Я и Х(рест) и МЫ С ЛИИХ(ом)» РА ВИЙ Деяния = ДЕ Я НЕ Я БОГ СОЗДАНИЕ ЛЮбви ДЕев РАдеи vs ВИЮдеев НОСТРАДАМУС = НО-СТРА-Д-АМУ-С = СТРАНО С УМА Двинулся ПЁТР = ТРЁП ЛЕНИН - НИЛЕН = НИЛУС СТАЛИН - НИЛАСТ = НИЛУС
|
|
|
АЛЬ, ЕЛЬ, ЭЛЬ, ИЛЬ (бог) добродетель ДО БРО(шенных) ДЕТЕ(й) ЕЛЬ совершенства СО ВЕРШЕН С ТВА идеал И ДЕ АЛь цель ЦЕ ЕЛЬ «ЧТО ТАКОЕ ДОБРОДЕТЕЛЬ? Ответ на этот вопрос — я говорю не о теоретической, словесной формулировке, а о воспринятии данного понятия всем своим духовным существом — не под силу человеку и НЕ ПОДДАЕТСЯ ТОЧНОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ и в том случае, когда к последнему приступает перо и великих богословов» (Еп. Варнава (Беляев). Основы искусства святости. Нижний Новгород, 1998, изд-во Братства во имя св. Александра Невского, том 3, с. 242). *** «...СВЯТОСТЬ есть дар, который нельзя ни купить, ни тем более выучиться ему. Его можно только сравнить с зарождающимся В МАТЕРИНСКОМ ЛОНЕ новым человеком». («Сокровища святых. Рассказы о святости» Н.Черных)
|
|
|
К-АЗ-АКИ пишут ПИсьМО САЛТАНУ...набросок с наскоком! ВИДЫ религиозно-ОДИозных со-РЕВНОВАНИЙ: • БОРЬБА, БОРОТЬБА = БОРОТЬ БА(тю), Отца бороть! (за бороду его!) • ИЗ-РА-ЭЛЬ евреи трактуют, как "борящийся с богом" «И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления ЗАРИ(з-РА-и-ЛЬ)» (Бытие 32:24) «И взошло СОЛНЦЕ...» (Бытие 32:31) • ИЛЬ-Я Муромец "борется" с ЖИДОВИНОМ (ИДИШЕМ, произносимым как ИДОЛИЩЕ) идиш=шиди. • СОЛНЦЕ борет (берёт в пасть) К-РА-КОДИЛ • ГЛИНЯШКА всех поглотал • Иов попал во чрево КИТА • МИР стоит на ТРЁХ КИ ТАУ (xyz, Три БОГАтыря, ТРОИЦА) производные: РА vs ВИЙ РАДЕИ vs ВИЮДЕЕВ ••• а поутру все наборолись, проБУДИлись и все вместе начали НОВЫЙ ДЕНЬ! К-РА-СОТА! СОТА! спасай МИр, комм цу мир! СОТА? - «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть». (Откровение 13:18)
|
верить в СОЛНЦЕ - это же так естественно! птички верят...
|
(Откровение 12:1)
|
СОЛНЦЕ ВСЕМ СВЕТИТ!
|
комбинация их троицы - ФИГА, смоква смоктайте дальше
|
|
|
|
Oli Motor Terbaik – Total Hi-Perf
|
Бывшие чики... злятся пусть экс-чиксы, даже пусть клевещут, и зубами тоже пусть скрежещут, пусть... только я влюбился в лучшую из женщин... скорбь их приумножив... вбухав счастье в грусть... нету мне покоя, нету расслабухи... с теми было просто - сам себя пилю... козни пусть мне строят бывшие старухи... старые коросты, я её люблю... 4:51 19.07.2015
|
ТАВЕДОС - вот формат, достойный джент-мена. ТА - ТАктичность, ВЕ - вежливость, ДО - доброжелательность, С - спокойствие. А ВУБРАГ - это формат подросткового самоутверждения. ВУ - вульгарность, БРА - брань, Г -грубость. Короче, - даёшь ТАВЕДОС ! - Даю.
|
СЛОН = НОСл, СОН беспроБУДНИй, СЫН бога - ГАНЕША - ГОНЕЦ (дождалися наконец); *** • КОНь - символ божественного движения, УЗДА - символ УЗ, СОУЗА, СОЮЗА бога с человеком; • ДРАКОН - Д-РА КОН, ДАР КОН, «ДАР РА - КОН»: • КОН - ИГРА - И(з)-Г-РА (неЯВЛЕННОЕ движение точки из «Х» по игреку «Y» где «Г» (гусь, слияние) - символ неразрывности ХОДА и ПРОМЫСЛА - ХОД из «точки координат бога X» - ПРОМЫСЕЛ); • из-по-КОН (из ПОКОЯ) в не-Я-В-ЛЕННОЕ - СО-КРОВЬ-ВЕННОЕ [скрытый (КРЫШЕНЬ) ПРО-МЫ-УЗЕЛ (промысел)]. • В-РЕМ-Я, МЕ-РА, Б-РЕМ-Я, У-МЕР: МЕР=РЕМ (зеркальное слияние); МЕРА - МЕня РА - изМЕНЕНИЕ РА - ИПОСТАСЬ бога РА в СЫНЕ - богочеловеке (ВСЕ ЛЮДИ - ЛЮбвиДеИ); ВРЕМЯ - в МЕРУ испытание, Я В МИРУ; БРЕМЯ - Б-МЕР-Я - Бытие Я в МИРУ; У-МЕР - У (утя - символ игры и сердечности, неразрывной с МЕРой ИЗ-ПЫТАНИЙ); У-МЕР - в КОНи двинул (Ход); *** «ДАР РА - КОН» - явленный МИР - (XYZ, где «X» (крест) - координат невидимого бога, «Y» - игра, промысел божий, а «Z» - ТАЗ - Т(ау)-АЗ ЗАДняя [фоновая шкала объёма - ЯВЛЕНИЕ объёма в 3D)]. *** • ТАУ (крест) - «Т» - тоже символ Т-РОИЦЫ, ТРОЕ-ЦЕ (XYZ) - явленной трёхмерности; КИ-ТАУ, ЧИ-ТАУ, ТАЙЧИ - ТАЙ-(Тау-крест)-ЧИ - энергии жизни (Китай). *** 23:20 19.07.2015
|
|
|
|
-------- ---------- --------- " ... - 2000 лет с лихуем, а всё такие же .... 325865 "Журнал Подъем" 2015-07-20 01:17:51 [176.10.104.240] Не поняли? Кто может вместить, да вместит... - 47 все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его. (Лук.2:47) ... " ------ --------- ------- И не стыдно вам, скиф_азиат, - подмешивать матерки к текстам от Луки ?
|
|
|
|
|
|
подмешивать матерки / К текстам от Луки ? == == == == Ваши ругательства мне не нужны. / Запиши, скиф, их себе в альбом, И читай на рассвете с матерком. / А Л.Л. - здесь не при чём. -- Тьфу, - нечистая сила.
|
• КОНь - символ божественного движения, УЗДА - символ УЗ, СОУЗА, СОЮЗА бога с человеком; НЕТ!! они взяли вместо духовного обрезания ВЕТХОГО, взяли да обрезали себе уздечки на "xyz"! и через 2000 лет с лихуем (лишеные пол-хуя), а всё такие же ....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Иов.38:6) 16 ...камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не постыдится. (Ис.28:16) 6 ...камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится. (1Пет.2:6) 7 Кто ты, великая гора, перед Зоровавелем? ты - равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях: "благодать, благодать на нем!" (Зах.4:7) 4 Из него будет краеугольный камень, из него - гвоздь, из него - лук для брани, из него произойдут все народоправители. (Зах.10:4)
|
здесь буква «Р» = РЕЦИ = РЕЧЬ = СЛОВО
|
|
|
КОЛ (точка -0+) = КОЛОС = ЛО-КОН = ВОЛОС = ВЕЛЕС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хмель... в лесу ели... шёл я лесом хмельной, а луна шла пьяная... что ты скачешь, луна? светом льёшь в глаза? хватит, сердце, не ной! уже рана рваная... спала с глаз пелена - пьяная слеза... много девок у нас... я ж вбил себе вдовую, добиваюсь её, а она в ответ... за отказом отказ... чуть поднимешь голову, чуть заточишь копьё, а её уж нет... 4:49 22.07.2015
|
аль, ель, эль, иль, г-(слияние речи бога, г-ор)ор = ГОР, р(речь, слово)ог=РОГ = бог; вера - в-е-РА - вера ель РА; рев-вер; АВЕРС-РЕВЕРС; ревность - верность РА; матрёшка - МАТь ТРЁШКА - мат-трёшка - трёхэтажный мат, трое це; чакры - К-РЫЧА КРЫША КРИЧА КРИК-КИ КРИК ЧИ; ганеша - гонец - элефант - элевант - эле-навт; вимана - В-ИМ-АНА = В-ЫМ-ОНА - МЫ В ОНА; нибелунг - НЕБО ЛУНА; кетцалькоатль - ТЕ Кто ЦАЛЬ КО АтЛЬ = ТЕ чей ЦАРЬ АЛЬ (бог) - ЦАРЬ БОГОВ; зороастрийцы - ЗОРО-АСТРА - РОЗО-АСТРА - РАСА-АСТРА - (РА SOn = РА СЫН) = РАСА АСТРА (звезда), звёдная раса; шумеры - УМЕЛЫЕ - zumm (увеличенный) s-umm (d-umm) - С (большим) УМОМ РА - С УМЕ РА - С УМЕ ЛЫ; ступа = СТУПАЙ (одиночные для пришельцев, скороходы-самокаты, возможно летали); город - ГОР РОД, РОД ГОРА - сыновья бога; аркаим - макарий - ма кар - МИКРО - МАКРО - МА-К-РА - МЫ К РА; макарий = МАК АРИЙ - МАГ АРИЙ; маг = мог, могота, муж; арий = РАиЙ = РАЙ; деревня - Я ДЕРЕВ Насаждение = ДЕРЕВЬЯ, САД АРИЕВ - РАЙСКИЙ САД; стакан = с-ТАКАН = НАКАТим-С эль? (божественное слияние, ячменное пиво, яблочный сидр); вишня = ВИЖ-МЯ - ВЫЖми МенЯ; груша = Г(слить)-РУША (разрушая); яблоко = Я-КОЛБО (слить в бутыль) = КО-ЛО-Б-Я - КОЛОБ Я; амброзия - АМВРОЗИЯ - АМ В РОЗИнутый Я; ячменное пиво - Я Ч МЕН = НЕМе-Чь-Я ПИть ВО Я; нектар - НЕГТАР = НЕГа РТА = НЕГа в ТАРе (плодовоягодное в бутылках 0,5 л); негр - НЕГА РА; 7:29 22.07.2015
|
|
|
|
АВЕРС = ВЕРА С ЛИЦОМ; РЕВЕРС = Х-ОПА;
|
|
|
ФОМА - ВО МА са пиенсам - ПЕНИСОМ
|
(1-е Тимофею 2:15)
|
|
|
|
|
|
|
БУ-ГОР ВЕРЫ (ве-не-ры = НЕВЕРЫ) - ХОЛМ = ЛОХМы + XYй XYN - КОЛ(xyz) + ВОЛОСня ХОПИ = КОПИ Ц-АРЯ СОЛО МОНО БУ-ГОР ВЕРЫ (ве-не-ры = НЕВЕРЫ) - ХОЛМ = ЛОХМы + XYй ФОМА НЕВЕРА - ФОМА - ВО МА са пиенсам - ПЕНИСОМ (пока не вложу впёр-ста) впёр - с пер МА ПО-ТОКИ = ТОК КИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а пока «d-umm рост» - ДУРОСТЬ...
|
АКМЕ = МЕККА = сМЕКАлка
|
|
|
|
Aliens... Алёшенька, сынок... ЙА = I(ай) = Я = БОГ (наблюдатель) *** как же это так? ..а так, давно всё было... и Земля богов своих камнями била... била их в пятак им на беду, била в ахиллесову пяту... стих-ли боги, с-ти-Х-ли во-ды Stixa, стерилизовали пелены их в биксах... а Ахилл - лиха беда начал, брал их в жёны и детей зачал... что от них осталось? ..только гроб, гроб-ница... ниц лежали в Трое, мы не знаем лиц их.. лишь Любовь к отеческим гробам, иногда к награбленным рабам... Спарта! ..гладиаторы... Спартак свободы! ма-X-имум Максим обрёл за смелость, в Роде... боязливых нет среди богов - смелость повергает в шок врагов... 21:50 23.07.2015
|
|
|
|
|
|
|
|
ДЕНЬ АНГЕЛА = АН-ЖЕЛА = ЖЕЛАННА, день желаний колдовать = КОЛЯДОВАТЬ, КОЛ ДАВАТЬ (жене) каббала (kabbalah) = K-ABBALAH = K HALABBA = НА ХАЛЯВВУ саентолог = САЕН = НЕ АЗ (не айс) шамать, жрать = ШАМАН, ЖРЕЦ ЖЕР ТВА - РЕЖЬ ТВАРЬ ЖРА ТВА - ЖАРЬ ТВАРЬ ИЕРЕЙ - ЕРЕИ
|
ХАРЕ КРИШНА = HAAR ПОКРЫТИЕ = небритая 3.14сДА (волосяное покрытие, челюсти и шерсть)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Бытие 6:4)
|
|
10 = один + ноль (системный код)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Искусство... И в шапке дурак, и без шапки дурак... (русская поговорка) *** сокрыта тайна много лет... в шкафу зарыт экзоскелет... угрюмый юмор без ноги, влазь в сракоходы-сапоги! дородный донор первых групп на древе весел, корень, сруб... прах старины заполз в пазы, ты ящер, пращуров азы... браслеты, кольца... чья рука добро бросает с кулака? тут мало света, старый хлам... огня! огня, дровам-ногам! голыш, кресало и фитиль... был пиротехник, стал утиль... от сырости трещат бока, туман стал льдом, дал ДНК... крестообразный фейерверк... венец творенья: человек... гора, пещеры-вены, лаз... кайлом лёд рубит скалолаз... экспансия!.. трещит скала!.. коллапс!.. пал колосс от кайла!.. растает лёд, стечёт вода, роса, туман, пар иногда... вода-кристалл бутылки рвёт, в природе вод круговорот... ей форма не указ... в стакан, в ино... врёшь!.. был бы пьян! в граните, в гранях зеркала, был лёд, а капает с кайла... с кайла снег сполз и стал водой... а был кристаллом с бородой... косноязычие спас фольклор: в царе-горохе хора ор! в горохе узы к старине: накатим!.. истина в вине! 18:12 31.07.2015 * пиротехник = от г-реч. pyr (правда же похоже на РУГ-ань?) сл. с техник. ПРО МАТЕЙ, МАТ ВЕЙ ИЗ УСТ! на колу мочало, начинай сначала! (Хер сечёте меч-чем и огни-ноги) МЕЧ АГНИ-ЙОГИ! КАЙЛАС = КОЛ и ЛАЗ! ...колет глаз? КОЛА ГЛАС? ПСИ-КОЛА? ТРЕЗУБ КОЛА?
|
|
|
|
--- --- " ... Агни-Йога... Агу-Ки и наброс-Ки... ДИССЕРТАЦИЯ = РЕССИД ЦИТАЯ = РЕШИТЬ ЧИТАЯ = РЕ ИЗДАТИЯ = РЕИНКАРНАЦИЯ УЧЕНИЯ; Aliens... аль, ель, эль (Эллиль), иль, гор, рог = могота, много, мог, маг, Х, бох, бог; .... " --- --- Короче, - завитушки вокруг ПУСТОТЫ. Оценить таковые завитушки способен только " фатер Необъятности ". Вот ведь как бывает! Один и тот же выпендрёж, прости Господи. Что у того, что у этого гав-гав_автора. Тьфу, тьфу, тьфу ... нечистая сила. Что в Европе, что в необъятной Азии с их азиатами, не к ночи будь сказано.
|
|
|
|
АЗ и Я! = Я ВИЖУ СЕБЯ В ЗЕРКАЛЕ = ДВОЙНИК = ЯБОХ! ВОСКР-ЕСЕНИЕ = «ЗОЛОТАЯ ДРЕМОТНАЯ АЗИЯ» = СТИХ ЕСЕНИНА;
|
|
|
Облом о былом... (подорожная) *** деготь берёзы лапает шпалы... стопками слёзы, потом вокзалы... вагон тряхнуло, взвизгнули рельсы... нехило пнуло скарбом по фейсу... крик проводницы... чай!.. подстаканник... лицом блудница, формой охранник... купе уснуло... не шевелится... матом загнула торбпроводница... в купе не спится, в ватерклозете важные лица в мятой газете... поезд наш мчится змейкой вагонов... тронулись лица, а не перроны... 20:50 02.08.2015
|
|
|
|
|
Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего КО-ДРАНТА. (Матфей 5:25,26)
|
|
|
|
|
|
|
ВЫ ВЛОЖИТЕ СВОЙ ТРУД И ДЕНЬГИ.. В ГРАНДОТЕЛЬНЫЕ БЕЗГРАНИЦЫ.. ХОРОШИ.. МИРОЧКИ – ОБМЕННИКИ.. БРИЛЛИАНТ МИРОВ.. СЕМЬЕ ПРИГОДИЦЦА.. ************** ЭНЕРГИЯ ПОИСКА ************************ ПОВТОРЯЛКИ ЭНЕРГИЮ.. ТЕРЯЮТ.. ТОЛЬКО ПОИСК .. ВСЕГДА ЭНЕРГИЧЕН.. В ДОМАХ.. ТЕПЕРЬ.. МИРЫ ОТКРЫВАЮТ.. ПЛАНЕТАРЕН ПОИСК СТАЛ И ..ГАЛАКТИЧЕН.. ТАМ .. ГДЕ.. КОПИИСТЫ БЕССИЛЬНО.. МНОЖАТ ХАОС ЛИШЬ ДА ..С ЕРАЛАШЕМ.. У ПОИСКА .. НАХОДКИ ИЗОБИЛЬНЫ.. БЕЗРАЗМЕРНЫ.. ЕГО.. СТРАНЫ – БЕЗЭТАЖИ.. ************** МАРШАЛ ВСЕМИЛА РАСЦВЕТАЕВА : ТАК ТРУДИЦЦА МОГУТ.. ТОЛЬКО БОГИ.. ********************************************** КАК МИЛА ЗЕМЛЯ В ЦВЕТУ.. НА СОТИИ.. ВИДИМ ПРЕЛЕСТЬ.. КОЛЬЦЕВЫХ САДОВ.. ОТРАЖАЕЦЦА ЦВЕТЕНЬЕ.. В МЕЛКОВОДИИ.. И НЕТ НИГДЕ .. ПРИСУТСТВИЯ СЛЕДОВ.. ТАК ТРУДИЦЦА МОГУТ.. ТОЛЬКО БОГИ.. ДАРЯТ ЧАШАМИ ГРААЛЯ.. НАС ОНИ.. НУ… ЧТО ПРЕД ЭТИМ.. ГОРОДСКИЕ КРОХИ ? ЦВЕТ САДОВ.. В ЭДЕМАХ ДЛИТ.. ЖИЗНИ ДНИ.. ************* МАРШАЛ КОСМОДЕЯ КОСМОДЕЯНСКАЯ : ********************************************** ЗЕМНОГО КОСМОСА.. РАДУЖНЫЕ КРАСКИ.. БЕЗЛЮДЬЕ.. НЕСКАЗАННО.... ВЕСЕЛИТ.. СОБИРАЮЦЦА.. ЛЕГЕНДЫ И СКАЗКИ.. ПРЕДСТАВЛЯЮТ.. ВОЛНУЮЩИЙ ВИД.. ТВОРЦА.. ЛИТЕРАТОРА – ЧАРОДЕЯ.. ВДОХНОВЯТ .. НА МАГИЮ СЛОВА.. ВОСПАРИТ ОН.. ДУШОЙ МОЛОДЕЯ.. И НАС ПОРАДУЕТ.. СНОВА И СНОВА.. ************** МАРШАЛ ДРУЖИНА ОБГОНСКАЯ : МЫ.. ПИЛОТОВ – МАСТЕРОВ .. ДРУЖИНЫ.. ************************************************* МЫ ОБГОНЯЕМ .. ВРЕМЯ МАШИНЫ.. СОЗИДАЕМ.. ТВОРИМ.. ДЕРЗАЕМ.. МЫ.. ПИЛОТОВ – МАСТЕРОВ .. ДРУЖИНЫ.. МЫ .. ЖИВОЕ РАВНОВЕСИЕ.. СПАСАЕМ.. НАС ПЕДАНТЫ МОЛЧАЛИВО ШПЫНЯЮТ.. «БЫТЬ НЕ МОЖЕТ.. НИГДЕ НЕ ЗАПИСАНО..» НО .. ПОДВИЖНИКИ .. ТО ИСПОЛНЯЮТ… ЧТО ЖЕЛАЕТ ВИДЕТЬ .. ОТЧИЗНА.. ************** ПРИЗЫВ К ТВОРЦУ.. ***************************** ТВОРИ МИРЫ.. И ЧИЩЕ.. И ДОБРЕЙ.. ИЗУКРАСЬ.. ДИВАМИ.. САДЫ УГОДИЙ.. С ДУШ СНИМИ ТЫ.. СТУЖУ ЯНВАРЕЙ.. СДЕЛАЙ НАС.. ПОЛУБОГАМИ С МЕЛКОВОДИЙ.. ЛОЗУНГИ - ДЕВИЗЫ .. ДАЙ В ПРОЕКТАХ.. КАК УДАЧИ НЕБЫВАЛЫЕ.. ВАЛОМ ВАЛЯТ.. .. И.. В ПАРАДИЗЫ КЛИНИТ ПУТЬ.. ДОРОЖНЫЙ ВЕКТОР.. А МАКАР .. В ЭДЕМ .. УЖЕ ВЕДЁТ.. ТЕЛЯТ.. ************ МАРШАЛ ЧАЯНА МНОГОГРАНСКАЯ : СОБИРАЙТЕ .. СЕМЬИ.. МИРЫ – МНОГОГРАНЫ.. **************************************************** ЕСТЬ ЗЕМЛИ МУЗЫКИ И ПЕСЕННЫЕ СТРАНЫ.. ПРИ ДОМЕ БЛИЗКО.. ОБНАРУЖИЛИСЬ ОНИ.. СОБИРАЙТЕ .. СЕМЬИ.. МИРЫ – МНОГОГРАНЫ.. ЭЙ.. КРОХОБОР.. ПОПРОБУЙ НАС ДОГОНИ.. МЫ ..В МИРИАДАХ СТРАН.. ОБОСНУЕМСЯ.. С ФЛОРОЙ И ФАУНОЙ.. У НАС ..ПРОЧНЫЙ КОНТАКТ.. МЫ В ДУХАХ.. МЫ В БОГАХ .. НАРИСУЕМСЯ.. А ПАРАДИЗЫ МЧИ НАС .. НАШ ДОМАШНИЙ.. ТРАКТ ! ************ МАРШАЛ АЗАРТА КУДЕСНИКОВА : МАСТЕРОВ КИДАЕТ .. В ЧАРОДЕИ...В МАГИ.. ************************************************ ЩАЗ НА СБОРКЕ.. ВРЕМЕНА.. СЧАСТЛИВЫХ ВСТРЕЧ.. ОЖИДАЮТ ВАС .. УСПЕХИ И УДАЧИ.. БУДЕТ МНОГО.. И ПРОРОКОВ .. И ПРЕДТЕЧ.. МАРШАЛАМИ.. ДЕВУШЕК НАЗНАЧИМ.. В ТРУДАРМИЯХ ЩАЗ.. ПЕСЕННЫЙ НАСТРОЙ.. ХРАБРОСТИ .. КИПЕНИЯ.. АЗАРТА.. И.. ОТВАГИ.. ОДОЛЕЕТ ВСЕ ПРЕГРАДЫ.. ВЕТРОСТРОЙ.. МАСТЕРОВ КИДАЕТ .. В ЧАРОДЕИ...В МАГИ.. ************** МАРШАЛ МУЗА ЧАРОПЕСЕНСКАЯ : Я СКОРО.. МИРИАДЫ СТРАН СЕБЕ ДОБУДУ.. ************************************************** СПЛЮ И ВИЖУ.. ПЛЕНИТЕЛЬНЫЙ СОН.. БУДТО Я.. В БЕЗГРАНИЧНЫХ УГОДИЯХ.. И ВСЮДУ СЛЫШЕН.. ЧАРОПЕСЕН МУЗОН.. И ПИЛОТ.. И МАСТЕР.. И В МОРСКОЙ ПЕХОТЕ Я.. БУДТО ПУТЕЙЦЫ.. К ГЕРОЮ.. ГЕРОЙ... ВСЮДУ .. И ВСЕВЫШНИХ ПИЛОТАЖЕЙ.. БЛАГОВЕСТИЯ.. И Я СКОРО.. МИРИАДЫ СТРАН СЕБЕ ДОБУДУ.. НУ.. НЕВОЗМОЖНО БОЛЬШИЕ .. ПОМЕСТИЯ.. НАВОСТРИЛСЯ БУДТО Я.. БЕССЛЕДНО ЖИТЬ.. И НА ОЛИМПЫ .. В БОГА.. ЛЮДЕЙ УНОСИТ.. А ПОМОГАЮТ ВСЕМ И ВСЯ .. БЕЗЭТАЖИ.. И ЛЮБОЙ .. БЕРЁТ СТРАН.. СКОЛЬ ЗАПРОСИТ.. ************ МАРШАЛ НЕЖДАНА АГРОМАДНОВА : СТАНЕМ МЫ В ТРУДАХ.. ВЕЛИКАНАМИ.. *********************************************** ГОДЫ БЫЛИ .. БЕЗНАДЁЖНЫЕ.. ОТЧАЯННЫЕ.. ВСЕ РАБОТЫ КАЗАЛИСЬ.. ГРОМАДНЫМИ.. НО ПРОЕКТЫ ВДРУГ НАШЛИСЬ.. НЕОБЫЧАЙНЫЕ.. ЗАВЛАДЕЕМ .. ПАРАДИЗАМИ ПРИВАТНЫМИ.. СТАНЕМ МЫ В ТРУДАХ.. ВЕЛИКАНАМИ.. ЕСЛИ ТОЛЬКО .. В ДОМ ВЕРНЁМСЯ ОТЕЧЕСКИЙ.. НАДЕЛЯТ НАС .. ВОЛШЕБНЫМИ СТРАНАМИ.. ОЛИМПИЙСКИЙ БЫТ НАЛАДИМ.. НОВОГРЕЧЕСКИЙ.. ************ ПОМОЩЬЮ ЖИЗНИ И СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ.. ВОТ КАКОЙ.. ПОВСЕМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ.. НАДО .. ЖИВОРАВНОВЕСИЕ ЩАДИТЬ.. ЩЕДРОСТЬ К ЖИЗНИ .. В ЛЮДИ ВЫВЕДЕТ НАС.. ************* У НЕЙ ТЕЛО ЗАГОРЕЛОЕ .. ЗАГАРОМ.. ДИВНО ОБЛЕКЛАСЬ ОНА .. В ОГОРОДЕ.. С ТЯПКОЙ ВЕСЕЛО ПАРИТ..ЛЁГКИМ ПАРОМ.. И ОВОЩ .. РАДОСТНО РАСТЁТ У НЕЙ.. ВРОДЕ.. ************* МАРШАЛ ЛЮБОВЬ ГАЛАКТИОНОВА : МЫ ОЧИСТИМ ПЕЙЗАЖИ.. КАК СВЯТЫНИ.. ************************************************** «НАС НЕ ВИДНО.. ОГОРЧИЦЦА ИНОЙ.. А КАК ХОТЕЛОСЬ БЫ.. БЛИСТАТЬ НА ПЕЙЗАЖЕ..» ..НО… ЭТО Ж .. СТИЛЬ БЕЗГРАМОТНЫЙ .. ШАЛЬНОЙ.. ЭТО ЖЕ.. У ЛЮБОГО.. ГАЛАКТИК ПОКРАЖИ.. ! МЫ ОЧИСТИМ ПЕЙЗАЖИ.. КАК СВЯТЫНИ.. ДАЖЕ.. В САМОМ .. ДОИСТОРИЧЕСКОМ.. РОДЕ.. ЧТОБ ПРИСУТСТВИЯ НЕ БЫЛО .. И В ПОМИНЕ.. ЧТОБЫ ЗЛО ..НЕ ТВОРИЛОСЬ.. В ПРИРОДЕ.. ************ МАРШАЛ ТАИНА МИРОТВОРЦЕВА : ВСЕ.. КАК БОГИ.. ОБИТАЮТ.. В БЕЗЭТАЖЕ.. ************************************************* ТАЙНЫЙ БЫТ.. ОБЫКНОВЕННОЕ..ЧУДО.. ЩАЗ ВОШЛО .. В ИНСТИНКТЫ.. В ПРИВЫЧКИ.. ОБРАЗ ЖИЗНИ.. СЕКРЕТОМ ОКУТАН.. НИ ВОЛОСКА НЕ ВСТРЕТИТЬ.. НИ СПИЧКИ.. МИРОТВОРЧЕСТВО.. БЕССЛЕДНОСТЬ .. ВОЦАРИЛИСЬ.. НАСЕЛЕНИЕ .. ИСЧЕЗЛО.. КАК БЫ ДАЖЕ.. КУДА Ж МАССЫ НАСЕЛЕНИЯ.. ИСПАРИЛИСЬ ? ВСЕ.. КАК БОГИ.. ОБИТАЮТ.. В БЕЗЭТАЖЕ.. *************** МАРШАЛ ДЕВИЗА ПОЛУДУХОВА : «ВИТАЛИСТЫ - ВЕТРОБОРЦЫ.. ВПЕРЁД !» ******************************************** ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕВОСХОДЯТ .. ВСЕ ПРЕДЕЛЫ.. В ГРЁЗЫ МИРОВЫЕ ТАК И ТЯНЕТ .. РЕАЛИИ.. СТРАНЫ ОБРЕТАЮТ СЕБЕ .. ДЕВЫ.. СТРОЮТ ВСЕ.. НЕБЫВАЛЫЕ.. ВИТАЛИИ.. «ВИТАЛИСТЫ - ВЕТРОБОРЦЫ.. ВПЕРЁД !» ВОТ ДЕВИЗ ПОВСЕМЕСТНЫЙ .. ПИЛОТОВ. В ПОЛУДУХИ.. ВОСПАРЯЕТ НАРОД.. СОБИРАЯ.. ВЕЛИКИЕ ЛЬГОТЫ.. ************ МАРШАЛ МИРИАДА ГРАНДОТЕЛЬЕВА : ДЕВСТВЕННЫЙ ПЕЙЗАЖ .. ПЛОДИТ АМЕРИКИ.. *************************************************** ИДЕАЛЕН ТАЙНО – ПУТЬ .. ИЗНУТРА.. ШАРИКИ ЗА РОЛИКИ.. ЗАКАТИЛИСЬ .. О ТАКОМ .. МЫ И НЕ МЕЧТАЛИ.. ВЧЕРА.. МЫ .. В МИРИАДАХ ГРАНДОТЕЛЕЙ.. ОЧУТИЛИСЬ.. В СЕКРЕТАХ .. САМОМНОЖАЦЦА МИРЫ.. ДЕВСТВЕННЫЙ ПЕЙЗАЖ .. ПЛОДИТ АМЕРИКИ.. ВСЕ В ВОСТОРГЕ ОТ ТАКОЙ ИГРЫ.. НРАВЯЦЦА ВСЕМ.. СТРАНЫ – БЕЗРАЗМЕРИКИ ! СТРОИМ .. НЕВИДИМКУ – МЕТРО.. ТАЙНА НАМ.. СЛОВНО МАТЬ РОДНАЯ.. ОНА НАМ .. ЖИЛИЩЕ И КРОВ.. А МЫ.. ПИЛОТОВ .. РАТЬ ЗАВОДНАЯ.. ************ МАРШАЛ ЛИНЕВА ИМПЕРСКАЯ : ***************************************** МЫ ЯСНОПОЛЯНСКИЕ.. ПИЛОТЫ – МАСТЕРА.. САДОВОДЫ МЫ.. ИМПЕРИЙ ДОМАШНИХ.. РВЁМСЯ В БУДУЩЕЕ .. ИЗ ЛЮТОГО ВЧЕРА.. БЕЗЭТАЖЕЙ МЫ БОЙЦЫ.. ЧТО НАМ БАШНИ ? ************ МАРШАЛ МАСТЕРА ОПОЛЧЕНЦЕВА : ОПОЛЧАЙТЕСЬ ВСЕ .. МИРЫ СТРОИТЬ..! *********************************************** СВЕРКАЮТ МОЛНИИ И БУХАЮТ ГРОМА.. БЛАГОВЕСТИЯ.. В ВОЛОСТИ.. ПОКАТИЛИСЬ .. ОТСТУПАЕТ.. БЕЗГРАМОТКИ ТЬМА.. МАСТЕРА НЫНЕ.. КАК ЗАНОВО.. РОДИЛИСЬ.. ПЛАНЫ.. ЭДЕМОВ ПРИ ДОМАХ.. РАЗДАЮТ.. ВСЕХ ПРЕЛЬЩАЮТ.. РАЙСКИЕ КУЩИ.. УВЛЕКАЕТ МИРОВОЙ .. СЕМЕЙНЫЙ УЮТ.. И ТРАНЗИТ – УЧЁБКИ .. СВЕТ ЗОВУЩИЙ.. ТЬМА НЕВЕЖЕСТВА.. ПАДИ ! ДАЁШЬ ЛИКБЕЗ ! ОПОЛЧАЙТЕСЬ ВСЕ .. МИРЫ СТРОИТЬ..! ПЕРЕСЕЛИМСЯ.. В ЦАРСТВА ЧУДЕС.. ЗАПИШИТЕСЬ.. В ПУТЕЙЦЫ - ГЕРОИ ! ************* МАРШАЛ ОЛИМПИЯ ЗАЛЕССКАЯ : ***************************************** МЫ СТРОИМ ЗЕМЛИ .. НАШЕЙ МЕЧТЫ.. ИЗ ЧУДЕС ТВОРИМ.. РАЗНООБРАЗНЫХ.. СОБИРАЕМ ИДЕАЛ.. ПУТЬ - КРАСОТЫ.. ЗЕМЕЛЬ СКАЗОЧНЫХ.. БЕЗОПАСНЫХ.. НАМ МЕЧТАЛОСЬ И ВОТ.. ПАРТИЗАН.. ПОДГОТОВИЛ НАМ .. СЮРПРИЗ ПОДПРИРОДНЫЙ.. ТАМ И ПТИЦА ЖАР ( ИЛИ ЖЕ ФАЗАН ?) СЛОВОМ.. РАЙ .. ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНО ГОЛОДНЫХ.. УЧТЕНЫ ПОЖЕЛАНИЯ ВСЕХ.. И ЗВЕРЕЙ .. И РЫБ ..И ПТИЦ.. И ЦВЕТОЧКОВ.. ВСЯ ГАРМОНИЯ ЖИЗНИ.. ВО ВСЕЙ КРАСЕ.. ВОЛШЕБНЫХ СЕМЕЙНЫХ МИРОЧКОВ.. *************
|
Из барыг в реки... наброски... «Из варяг в греки»... г-реч. «pyr» (правда же похоже на РУГ-ань?) РУГ = ГУР, Б-АЛА-ГУР; Б = B; Я = R; R = Г; У = Y; П = P; ГРЕКИ = Г(слияние = сплав)РЕКИ = СПЛАВ ПО РЕКЕ; ВАРЯГ = barpg = bapgr = БАРЫГ = барыш = МИР, СОГЛАШЕНИЕ к МИРу (тюрк.) = к РИМ = КРЫМ, РЫМ и медные трубы; ТУРЕЦКИЙ = ТУР-РЕЧЬ = в ТУР по РЕКЕ; ВАРЯГ = НАВАР = БАРЫШ; *** ЛЕПТА = ТЕПЛА; КОДРАНТ = КОД РА НАШЕ ТВЁРДО; К ВАДРО = К ВЁДРО = К СОЛНЦУ! ВЁДРО = РДЕВО = РДЕТЬ (рдеет заря); (E = MC²) = Я ЕМС в 2-х квадратах = Я ЕСьМ в 2-х квадратах = СЕМЯ в 2-х квадратах = ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА = ЗВЕЗДА = СЕВ С ДА = ВИФЛЕЕМ = ВЫЛЬЕМ Ф(аллос) = ХОД КОНЁМ = В КУБЕ = ВКУПЕ = ШАР-ДЕРЖАВА; КВАДРАТУРА КРУГА (кольца) = КВАДРАТ ТУРА = ТУРИНСКАЯ ПЛАЩАНИЦА = РОГ ТУРА (подобный агнчим) = DNA = ДНК; ТУР ХЕЙЕРДАЛ = ТУР ХЕР ЁР ДАЛ = ВЕСЬ ШАР НА ЛАДОНИ = НА ЛОДИЯХ = ДЕРЖАВА! 5:37 04.08.2015
|
|
|
|
КРЕМЛЬ = МЕРКЛЬ = РЕК Л-МЬ = РЕК Людям Мысли = РЕК ЛАМА = РЕКЛАМА?; МАВЗОЛЕЙ = ВЗЕ ЛОМАЙ (ВСЁ ЛОМАЙ) = ВОЛ ЗМЕЙ = ЗМЕЙ ЛОВ; СОБОР = БОРОС = УРОБОРОС? = БО РОС = БОГИ ОН - РОС;
|
|
|
|
СВОБОДА = СОВ БОДА = БОС ВОДА; УРОВЕНЬ = У РОВЕНЬ = РАВЕНСТВО; БРАТСТВО = СОБРАТ С ТВОРЦОМ;
|
|
Мне понравилась ваша "Сарынь на кичку!" Я было в сознании своем решил сократить на пару строф нее, да внезапно понял, что по настроению стихотворение тогда проиграет. Присутствие мата в этом стихотворении, конечно же, естественное. В 17 веке говорили именно так. Это ханжи 19 века наложили запрет на мат, ибо возникла на то необходимость историческая - народ российский стремительно умнел и развивался. Сейчас, когда нация стремительно деградирует, мат естественным образом возвращается в речь русского люда с тем, чтобы служить для связи забытых русских и новых английских слов в невнятных предложениях. Достаточно прослушать выступающих на современных телешоу людей, чтобы понять, что писать для них надо именно так, как пишете вы. Но, к сожалению, как мне кажется издалека, они стихи даже в виде частушек не читают. Как будто они все - бракодабры.
|
|
|
|
|
СВОБОДА = СОВ БОДА = БОС ВОДА; ...небеса и земля составлены из воды и водою... (2-е Петра 3:5) БОС ВОДА = Боги Онъ СЛОВО; СЛОВО «ВОДА»; В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. (Благая весть от Иоанна 1:1-5)
|
Северная пальма... своей избраннице посвящаю... *** «Сарынь! на кичку!» *** О, Саня! О, Саня! Полмира осанил... Пленил города ты Осанкой солдата... Не лез ты на стену... С конём донским верным В снегу буксовали, А сани отстали... Подкопы, лопаты, То паты, то маты... Полмира... но Север... Пурга, бури, звери... Холодные латы Не греют солдата... Я Сон..Солнце..Ра Сын... Смешаю все расы... Я в Гиперборее... Их шкипер на рее... Их бить было скучно: «Сыны Ра! На кучки!» Ору мультиматом: «3.14здец вам, боряты! В войне я стратег! Своим - оберег!».. «Сдавайтесь на милость... Чтоб ветвь не ломилась, Жена мне нужна! Слазь с ёлки, княжна!» 20:10 03.08.2015 *** «Сарынь! на кичку!» = «Ра Сыны! На кучки!» (кучки = мелкие группы воинов);
|
|
За плодами... по плодам за воздам, аз замечу с крестом белым двери... дополна, отмечаю перстом, наливай... аз отмечу их дам, их представит и муж их и деверь... и бабьё мне красиво подаст каравай... колокольчик звенит: клинк-клинк-клинка-малинка! оторву хлеба край, подсолю каравай... головою в зенит: допиваю из крынки... по усам потекло... подливай, подливай! захрустят огурцы, запоёт балалайка! из соседних дворов тащут чью-то гармонь! веди твердо реци да не лапай хозяйку! дочку сватать пришёл, так не порть церемонь! колокольчик звенит: клинк-клинк-клинка-малинка! оторву хлеба край, подсолю каравай... головою в зенит: допиваю из крынки... по усам потекло... подливай, подливай! 6:01 11.08.2015 *** ЦЕРЕМОНИАЛ = CAERIMONIALIS (лат.) = CAER-I-MON-I-SILA/ALIS = и ЦАРЬ и БОГ и СИЛА!
|
АЗ ОТМЩУ = ПРАЩУР = ПРАЩА РУСА;
|
|
|
|
|
|
Это Спарта! Триста лучших сынов Спарты Умирали, как в сев зёрна... Умирали, пока спал ты... Умирали в щели чёрной... Триста лучших сынов Гордых, Триста лучших сынов Света... Триста - это зерна горстка, Полегли... больше их нету... Взять в кольцо было их трудно!.. В щель загнал их врага натиск... Триста первый «новый иуда» Продал путь... подвела зависть... Триста первый рождён был хилым... «Да... не воин... Бросай в бездну»!.. Мать рождённого утаила - Тьмы утопит болван-бездарь!... О, Гончар! Ты Большой Мастер! Обжигатель Горшков Духа! Развивать Дух в Твоей власти! Разбивай же Горшки, Ухарь! Триста первый горшок треснул И не держит в себе зелье... Белый Лебедь кричит песню, Вопиет к небу из ущелий... 11:32 14.08.2015
|
|
Серый Волхв... «Так совершены небо и земля и все воинство их». (Бытие 2:1) ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ - ВОИНСТВО ИХ... *** «Счастлив тем, что целовал я женщин, Мял цветы, валялся на траве И зверьё, как братьев наших меньших, Никогда не бил по голове»... (Сергей Есенин, 1924 год, фрагмент) *** Серый Волк, Говорящий Шарик! Верный пёс или дикий? Сверь! Сепаратор двух полушарий Реки льёт и рычит: «Поверь!» Центрифуга привычно воет - Так Коровы ревут Рога... Горних Воинство Мы - Герои! Колья в вязкие берега! Колем грязные с виду Реки, Гоним Чары, Туман Густот... Человек разливает Млеко, Заполняет Брега Пустот... Герб забросили Луне в Кратер, Вставим стержень в другой Кристалл... Крест - Ристалище Звездных Братьев, Па Star Спарты, Звезды Уста! Потекут и Молочные Реки, Коль в Кисель вставлен Русский Хер! Звезданутые Человеки - Звёздно Воинство, Русский З-вер-р-р! Это с Па Рта! 11:37 16.08.2015
|
|
|
|
Ибо сказано: «Великое мастерство похоже на неумение» Цитата из «Дао-дэ цзин», глава XLV
|
азвука с картинками здесь http://www.stihi.ru/2015/08/17/3112 Се ребро... на ребре стоит тропарь весь затрёпаный... песнопения букварь с праздностопами... как пришелец я пришёл, * появился вам... плохо то иль хорошо, всё слова, слова... озаря любви момент, в лазы лазая, предоставил аргумент, лечил лазером... я не лазера лечил, дети глупые... дщерей видеть научил, глаза лупали... показал я вам в кино веру лучшую... бестолковым всё одно - революция! научил азвуке слов, писать буками... ишаков учил, ослов - криворукие... на боку лежит бугай, аверс с реверсом... орла с решкой не ругай - хер оженишься! герб, брега и берега всё ты путаешь... ты не видишь ни фига, тамотутошний... дал себя со всех сторон я осматривать... хер, херон всех похорон... стали отрывать... серый волк послал посыл в горшок глиняный... осы, пчёлы да и псы были-сгинули... сам я сеятель и жнец, если поняли... всё! кину пришёл кинец! всё япония!** *** * Я пришёл = Je Sus (фран. = В РАНЬ = НА ЗАРЕ) = (русск. вольно) = ЛЕЗУС = С УЗЕ/УЗИ Л(учом) = Из Уст - В Уста = Лаз УЗ(ок)/Луч Уз(ок) = Лазер/Лазарь/Световая игла/ИГРА = ЛАЗЕРНОЕ ШОУ = ГОЛОГРАММА = HOLOS (весь, полный, г-речь) GRAMMA (запись, письменный знак); УЗИ = УЛЬТРА ЗВУКОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ; ЛАЗЕР/ЛАЗАРЬ/СВЕТОВАЯ ИГЛА/ИГРА = ЛАЗЕРНОЕ ШОУ; «Он пришёл на праздник не явно, а как бы тайно» (от Иоанна 7:10); HOLOS + GRAMMA = ГОЛОС/ЛОГОС/ГОЛ ОС + ГРАММАТИКА = АЗ ЗВУК КА = АЗБУКА/БУКВАРЬ/АЛФАВИТ (на иконах ПРИШЕЛЕЦ держит в руке КНИГУ со ЗНАКАМИ и скрещенные персты); ЛАЗАРЬ = ТО, ЧЕМ ЛАЗАЮТ В УЗКИЕ ЩЕЛИ = Х = ЛАЗЕРНАЯ ИГЛА/ИГРА = ХЕР(ЦИ)/ГЕРЦЫ В УЗИ/АСПИД-ПИСДА = БАГОР-ИЗ/ЗИ-ГРОБА = МЕЧ-КЛАДЕНЕЦ В НОЖНЫ/ГРОБ/ГОР-БАТЫЙ = ВЛАГИНА-ВАГИНА/ДЫРА-РАДЫ; БАГОР = БАГРОВЫЙ РОГ = Х = РОГА Боги = ПЕРСТЫ (переплетёные ДВА пальца на иконе) = ТУР/ТУРА/ТУРИНСКАЯ = ДНК/DNA; СКРЕЩЕННЫЕ ПЕРСТЫ = РОГА ТУРА = ДНК = ВЕРБОХЛЁСТ = ВЕРБАЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА Х/ХЕРА/ГОСПОДА; «Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых». (от Иоанна 12:17) «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». (Деяния 2:2) «И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, крестился»... (Деяния 9:18) КИНОТЕАТР = «дом, где они находились»... ЛУЧ СВЕТА В ТЁМНОМ ЦАРСТВЕ = «и, встав, крестился» = ПОПАЛ В ЛУЧ СВЕТА/КРЕСТИЛСЯ СВЕТОМ; ГРОБ = БОГ Реци = БОГ РА = БОГ СВЕТА = КОВЧЕЖЕЦ ДЛЯ ПРОСМОТРА КИНО/ПСИ = РАЁК; ВОСКРЕСИЛ = ВОСК СЕР СИЛ/СЛИ(яние желаемого и действительного) = СЕРОГО МОЗГА СИЛА/ЛИСА; ВОСКОВАЯ ФИГУРА = ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ = МЕНТАЛЬНЫЙ ЗАРОДЫШ = НЕПОРОЧНО = НЕ ПРОЧНО = ГАЗОВОЕ = СВЕТОВОЕ КИНО/ЛУЧИ = ПРИВИДЕНИЕ = ЛАЗЕРНОЕ ШОУ = ГОЛОГРАММА; После просмотра КИНО, которое показал ПРИШЕЛЕЦ как ЧУДО, всем стало жаль мёртвого ГЕРОЯ... Чтобы люди не убивались пришлось повторить сеанс... (...или послать Лазаря на три буквы...) «Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон». (от Иоанна 11:43) ЛАЗАРЬ! ИДИ ВОН = ЗААРАЛЬ! ИДИ В НОВ... *** ** «На то способна только, единственно, умопостигаемая Япония, потому что она сразу уже есть даже Япония в квадрате. То есть всё, что есть Япония вместе со всем, что и не есть Япония и вовсе есть не Япония, захватывая рядом и нерядом лежащее. То есть она уже не есть Япония. Вернее, есть не Япония, но — возможность Японии в любых обстоятельствах и точках пространства. Посему необязательно, но и при том нелишне, вернее, незазорно увидеть какую-никакую наличную Японию, оставив той, первичной по роду порождения и преимуществования, Японии все истинно японское. Вот и бываю я порой командирован судьбой в места, узко определяемые и обозначаемые своим прямым именем. Возможно, подобное выглядит чересчур надуманным и выспренним. Но коли оно такое есть, то как же его представишь иным образом? — никак»... Пригов Дмитрий Александрович «Только моя Япония» (непридуманное)... *** БОГ = (-0+) = XYI = XYZ = АВЕРС-РЕБРО-РЕВЕРС = ОРЁЛ-РЕБРО-РЕШКА = ДВИЖЕНИЕ И ПОКОЙ; РЕБРО = 0 = ПОКОЙ 8:40 17.08.2015
|
|
Молчание Золото, а Слово - Серебро (русская поговорка)... СПИ С ДАО!
|
|
|
|
|
-- " ... [176.59.86.235] ХЕР ... " -- Ага, понял. Так вас, уважаемый, и будем называть.
|
|
|
Извините, что беспокою. Но, обратите внимание! - Это Ваш протеже. И вот как он сам себя называет: - причинным местом на букву х... Вот копирую его два последних поста : --- --- --- " ... 326792 "Журнал Подъем" 2015-08-18 12:51:52 [176.59.73.155] ХЕР - «Так совершены небо и земля и все воинство .... .... 326791 "Журнал Подъем" 2015-08-18 12:49:34 [176.59.73.155] Скиф-азиат - Пейсы мозгам .... " --- --- ---- Обратили внимание: IP - адрес один и тот же (*.73.55). И как Вам это нравится ?! Почему-то я уверен, что вы найдёте что сказать в защиту своего высоко_художественного поэта. Флаг - в руки.
|
Ушу... наброс Ки... ДРАКОН = ДРАКИ ОН; КОН ДРАКИ = КОНДРАТИЙ Х-В-АТИЛ(ЛА); ТАЙ ЧИ = ЧИТАЙ; ЦИ/ЧИ/КИ - КОСМИЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ; ТРУБКА = ПЕЙ, ССЫ = ЧЕРВЬ/ЩЕЛЬ/ЩЕЛЕП/ЧЕРЕП = ТРУБА/ХАРОН = ПОХОРОНЫ; МАРШ = РАМ/RAM/ПАМЯТЬ ОПЕРАТИВНАЯ/РАМА Ш = РАМА ШИВА = МАРА ЖИВА = МА РА ЖИВА = МАТЬ/ТЬМА/СОН МЫ/РА АЗ МНОГО ЖИВ; ВИТЯЗЬ = БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ = СКРЕЩЕННЫЕ ПЕРСТЫ = РОГА ТУРА = ДНК = ВЕРБОХЛЁСТ = ВЕРБАЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА В НЕБО = Х/ХЕР/Г(слияние) = ИСПОД-ОСПОД; УШУ = УЧУ; АЙКИДО = Я КИДО; КАТО = ТОКА; КАРАТЕ = КАРА ТЕ/РАТЕ КА = КА РАТНИКАМ; ТАЙКВАНДО = Я КВАНТ ДО; ВЬЕТНАМ = ЗАВЕТ НАМ; КВАНТОВЫЙ ПУТЬ; КАПУЕРО = ЕРО-Ф/ВЕЙ = КУПА ЕРО/КУПАНИЕ/КОПАНИЕ КРАСНОГО КОНЯ; ВИТЯЗЬ = ВИТЬ ЯЗЯ = ОКУНИ И МОТАЙ ТАМ = АКУНА МАТАТА/ИЗМАТЫВАНИЕ/из тех ВОРОТ что и весь народ... КУНЫМ/СЕКТЫМ = РАС-СЁК ТАМ = СИК/КИС МЫТО/ОТЫМ(еть); КУНАК (т-юрк.)/ДРУГ/ГОСТЬ/КЕШТЫМ/ПРИШЕЛЕЦ/КУРСЫ КРОЙКИ И ШИТЬЯ ДЕЛ = DNA/ДНК; КУНГ-ФУ = Г(слияние)О-КУНИ В ВУ(льву) = ВОРОТ КУНЫМ/АКУНА МАТАТА/ИЗМАТЫВАНИЕ ПРОТИВНИКА ЛЁГКИМ БЕГОМ/ДАТЬ ЛЕЩА/ОКУНЯ = СЕКТЫМ = РАС-СЁК ТАМ = СИК/КИС МЫТО/ОТЫМ(еть) = ОТЫМЕЙ/ОТ-УМЕЙ ПРОТИВНИКА!; ЙА-ЙА! = КРИК = LINGUA (Я-ЙА! ЗЫК!) = КУНИЛИНГУС/ЛИНГ-ВИСТКИ/СВИТОК/ГНЕЗДО/ГЕН/Ж-ЖЁН/ВЕСТАЛКИ = ОТЫМЕЙ/ОТ-УМЕЙ ПРОТИВНИКА ЗЫКОМ/РЁВОМ! ДЗЮДО = ДО буквы ЗЮ/СЮДО = ДЮСШ ДО = ЗЮД ДОЙЧЕ = БАВАРИЯ = ВАРВАРЫ = БАРБА РЫ-Ы/РЫК БОРЬБЫ = РЫВОК/РЫ-Ы ВОЛК = СЕРЫЙ ВОЛХВ; САМБО = САМ БОХ! БОРЬБА = БОРОТЬ БАТЮ! ТЮ... ПОРОТЬ БАБ? - Я-ЙА! 13:37 18.08.2015
|
|
|
Решил, что необходимо сказать несколько слов по поводу открытого письма, сочиненного Куклиным. Потому только, что не все в литинституте учились и многие могут принять его выдумки за правду. Само письмо мне безразлично, Валерик славится такого рода соплями-воплями, вызванными тем, что кто-то как-то оттоптал его больные ноги. Нездоровый человек, что взять с такого! И неграмотный! Если бы Куклин в свое время заучил алфавит, то заметил бы простую деталь: список слушателей семинара Смирнова В.П., о котором он так трогательно повествует, составлен именно в алфавитном порядке: Кузьмин, Куклин, Лунегова (поэтесса), Михайлова (поэтесса) (на Н никого не помню), затем покорный ваш слуга - Ороев... А завершает список семинара поэт из Свердловска Николай Языков, который, по рекомендации какого-то приятеля-земляка пришел и попросился у Смирнова принять его. Дело в том, что В.П. Смирнов большой специалист по творчеству Николая Гумилева, о котором в начале 80-х не очень распространялись по известным причинам. Посему поэтами семинар посещался с большой охотой. То есть, состав семинара образован был предельно просто, наши красавицы из деканата "нарезали" группы по алфавитному списку студентов курса. Почему я и оказался в кампании с Куклиным, с которым не имел никаких других точек пересечения, разные у нас были тропинки для прогулок. И все вопросы состава семинаров решались обыкновенно в деканате отделения института, без какого-либо вмешательства ректора. Он, предполагаю, и не интересовался какой студент какого преподавателя слушает. А конфликт со Смирновым у меня был! За одним столом со мной оказалась юная "безбашенная" поэтесса, которая взяла со стола мою зачетку и вписала в одну графу "Зачет по творчеству Натальи Михайловой - зачтено". Естественно, что я реагировал на эту выходку не без шума. А Смирнов в этот момент что-то увлеченно рассказывал поэтам. Оттого и мелкий конфликт, который раздувает куклик до вселенских масштабов, наплетя три короба лжи и приплетя к тому же своего мастера Пименова (семинар драматургов) - ректора института и того же Смирнова. Объясняться со Смирновым я не стал, потому что получилось бы глупо: усатый хмырь жалуется на девятнадцатилетнюю поэтесску! Это куклики о своих мелких обидах могут трубить на весь белый свет открытыми письмами! Так он и воспитания нормального не получил, откуда ему зналь, что лгать - грешно, сопли распускать - некрасиво! Весь текст куклинского послания - это образчик буйной фантазии уличенного не раз стукача, ищущего себе хоть какого-то прикрытия, пытающегося переложить свой позор на другого человека. Что касается Деркачева, то Куклин признается, что это была его провокация, что он убеждал меня, будто бы Сашка стучал. И даже клялся, что в перестройку в Кызыл-Орде гэбэшники показали ему доносы. Я в то время куклика еще не раскусил, держалал за порядочного человека, оттого и поверил его клятвам.
|
А я ничего не знал о твоем конфликте со Смирновым, потому и не говорил о нем ничего. И был уверен, что нас делили не по списку, а по вдохновению. Я, например, попал к Смирнову потому, что преподаватель с кафепдры творчес тва Молчанова сВЕТЛАНА посоветовала послушать его лекции, в которые превращались его семинары. Несколько лет назад на канале КУЛЬТУРА он частично повторил то, о чем повествовал нам. В твоем письме есть еще две неточности такого же типа. Но и они не опровергают моих утверждений, что ты - стукач. Да и не переживай ты за это для многих писателей в советское время было честью служить героями тайного фронта. Быв я как-то на семинаре молодых литераторов Москвы в годы студенчества в Лесотехническом институте у самой Елены Бонжр. Пришлось сдать рубль на печенья и премию мудаку, написавшему рассказ о страданиях евреев в Советском Союзе. Было нас там 16 человек, я - единственный, кто имел глупость посмтоять рядом с Сахаровым на площади Пушкина 30 декабря, но и при этом единственный, кто не хотел безработицы в стране - и за это меня из межсобойчика того прогнали. Гера Караваев (один из создателей "Апреля"), который ввел меня в эту шайку, потом даже пригласившую меня для участия в "Метрополь", на следующий день сказал: "Ты зря так глотку драл. Там половина - агенты КГБ. Как и я". "Ты?" - удивился я. "Конечно, - ответил он. - а то как бы я из Ташкуента к академику в дом попал?" "Но я ведь попал", - сказал я. "Потому что дураки там тоже нужны. Тем более кубинские коммунисты. Ты даже не представляешь, какую ты операцию сорвал своей защитой СССР. Поверь ты, контора тебе не простит". "Вопрос в том: прощу ли я контору", - сказал я, помнится. Зачем сказал? Сам не знаю. Злдость взяла. Мы же уже подружились тогда, дочки наши-однолетки подружились, я в разводе был, а жена его Таня ко мне относилась сочувственно, принимала тепло, подкеармливала. И вновь появился Герма в моей жизни уже после суда, начала ссылки и в дни поступления моего в Литинститут. Объяснился просто: "Не дейся. Для тебя лучше меня иметь рядом от конторы. Наших на твоем курсе 23 души. Зачем тебе они?" Именно потому я не стал жить в общаге института, а с Герой был вполне откровенен при встречах. Даже с Деркачевым познакомил. И было мне очень интересно наблюдать за ними во время пьяных разговоров. Нюансы юыли удивительные! Что до фото, то ты не то лжешь, не то забыл, что за фото послал мне. Это - не семинар и не группа слушателей отдельного курса. Это - мужики одного возраста с орфицерской выправкой, студенты различных поэтических и прозаических семинаров, без драматургов и критиков, из коих слушателями семинара Смирнова были, кроме тебя, лишь двое. Фотографировал, по-видимому, Деркачов. Да ты не переживай.э Работа есть работа. Если бы не перес тройка и не развал системы, ты бы достиг "высот известных". Расчет твой был верным: написать во Льгове продолжение "Районных буден", стать вторым В. Овечкиным - и периеселиться, в отличие него, не в колхоз под Ташкентом, а в Москву главредом толстого журнала. Но Родина приказала закончервироваться - и ты, верный долгу и присяге, стал Ионычем. А я был и всегда оставался простым советским парнем. Потому что ты - умный, а я - тупой. Тупо и добросовестно учился в вечерней школе, в четырех институтах, рабюотал по идннасдцйати специальностям, тупо гробил здоровье в экспедициях, тупо ненавидел ЦК КПСС и КГБ СССР, тупо сидел за это, тупо боролся с чумой, тупо сажал лес в пустыне, тупо учил школьников любить Родину не потому, что так положено, а потому что она - Родина. Я даже книги писал о том, чем мне любим Казахстан еще в 1970-80-х годах. Я и сейчас такой же тупой кубинский коммунист. А ты - бывший советский коммунист - защищаешь украинских фашистов. В этом - суть наших противоречий, а не в твоем стучании. На меня так многог стучали, что я завел список ваш - и оказалось, что ты - двадцать третий. Ведь ты использовал ДК для того, чтобы сообщить в БНД ФРГ о том, что В. Куклин - противник режима Ангелы Меркель и враг клики Порошенко. Твои посты были основными пмунктами обвинений этой организации ко мне, когда со мной вежливо разговаривали и объясняли, что Украина - это оплот демократии на постсоветской территории, самая гуманная страна в мире, что уголовник ПАорошенко - это ангел во плоти, и что не стоит смотреть российские телеканаклы. достаточно смотреть германские. Далее я не слышщал. Потому что уснул. Я вообще засыпаю, когда слышу или читаю глупости. Там у меня еще есть для тебя письмо. Но я тебе его завтра полшлю. Ты пока это перевари.
|
|
|
|
весь РЯД ассоциациё - это ВАШЕ ЛИЧНОЕ ГОРЕ ЛУКОВОЕ...
|
|
грешнику АД и ВСЕСОЖЖЕНИЕ а чистому подчёркиваю ЧИСТОМУ МЫСЛЯМИ - РАЙ СВЕТ ибо "Свет освещает себя самого и тьму, тьма же знает лишь себя, но света не знает"... (Евангелие от Ессеев 10:4)
|
|
те же майки/футболки с иностранными надПИСЯми...
|
|
|
|
|
|
|
--- ---- 326858 "Журнал Подъем" 2015-08-20 НО от ГЛУПОСТИ КВА КВА - а .... , по слабос .... кода про ХУЛЕО 326857 "Журнал Подъем" 2015-08-20 .... - вот пишу я от имени ХУЛЕО ... --- ---- Ну, что взять от этого "...ХУЛЕО..." - ? Полнейшее ничтожество, раздувающее щёки. Но не будем о грустном. Пусть его порадует, что его здесь несколько лет ТЕРПЯТ. Самашедший, что с него возьмёшь ?
|
Рубины Спаса... «...пойдите, спросите у Веельзевула, божества Аккаронского»... (4-я Царств 1:2) *** боязливых Нибиру... Рубикон табу... видишь чёрную дыру? - Веельзевул зевнул... погубил коней табун Лев разинув пасть... семи пядей, Мёд во лбу... Анх имеет власть... А ну на-к-ось! руби Кон! Лодьи-идолы... Три и Рты... Серёдка Он... Цифры выдали... Круги Ада, Три Кольца U-образные... Прикрывают мудреца Лиги разные... U-сосуд соединён тёплой массою... Тройной челюстью Зверьё в Небе клацает... Пчёлы в У-лей прячут мёд, Хором думают... а Медведь зимой сосёт Лапу Бурую... 14:24 21.08.2015 * АНХ = МАТКА/УЛЕЙ = АНУНАКИ/А НУ НА ХЕР/А НУ НАКОСЯ-ВЫКУСИ! * АККАРОН = НОРКА КА = НОРА КА РА/РАНО/ЗАРЯ/СИЗАРЬ = ЦЕЗАРЬ = МИЦАР = КОРА/Н = АЛЬКОР = ЦАРСКАЯ КОРА МОЗГА = КОРА МОЗГА ВСЕВЫШНЕГО; * ВЕЕЛЬЗЕВУЛ = ЗЕВ ЛЬВА = СЛОВА СЕВ В ЕЛЬ/ЁЛКУ/ЛАПУ ВУЛЬВУ/УЛЕЙ; АРХИВ/АКАША/НЕБЕСНАЯ КЛАДОВАЯ; ПЕРЕЛИВАНИЕ ЗНАНИЙ ИЗ МАЛОГО В БОЛЬШОЙ КОВШ = СОЕДИНЯЮЩИЕСЯ СОСУДЫ; ИЗ «ПУСТОГО» В «ПОРОЖНЕЕ»; * ЗВЕРЬ = 666 = 9; СВЕРЬ! СОЧТИ!/СОЧЕТАЙ! АГНИ-ЛЕВ/ВЕЛЕС/АГНЕЦ = 33 = 6; 36,6 = 6; SEX/REX СЛАВЫ;
|
грусный, унылый член РАН... что взять с Ко...? молока не видали пока..
|
== == == " ... Пчёлы в Улей прячут мёд, / Хором думают... А Медведь зимой сосёт / Лапу Бурую ..." == == == Вот образец "творчества" - от пошляка и серой бездарности. Автор, - расшиби свою пустозвонную башку о бетонную стенку. Тьфу, нечистая сила.
|
Пи си пропало... без логики, мать - тьма, свет - ветошь... разбойник - образ без зари... в устах галиматья поэтов... за приз боролись бездари... забился биос - плотью платы... эт блок лик три чества понёс... за ось потребовал доплаты святой раздроб-раздор либ ёг st... за первородство бились мелко, разборок яблоко вкуся... давно в природе этим меркам вес... только пёрышко гуся... гусь один белый, другой серый... короче... фазы ток и ноль... в глазах бельмо и в кущах сера... пьес нет... диеза съел бемоль... акустика... песнь райских кущей... ква-кванты, пьезо и магнит... звук стал отчётливей и гуще... в кустах... скрипичный ключ стоит... и бас потребовал проводку, а кусчи, нёбо показав, как тузик грелку, рвали глотку... и баса пробрала слеза... с барахты бухты до рассвета бас о любви всё голосил... кусачки - это конец света... эль эктрик зверь... дескать... пи си... 17:36 24.08.2015
|
|
Ток... «...род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка» (от Матфея 12:39; от Матфея 16:4; от Луки 11:29) «И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита»... (Иона 2:2) «По кусчему велению, по моему хотению...» (ука) *** Богиня Истины Маат - Из тины Нила ила шмат... Бог-God на Тьму прикрикнул: «Сгинь! Гори Огонь! Сверкай мозги!» И озарилась Неба Синь... Да, будет Свет! Нейрона Сын! Бог-Гат * на выдумку хитёр, Все производные, Гат, стёр... Явились сразу Конь-День-Сад... Ввод вод, * вод вывод... перед, зад... Из мига... не было ни зги... Ионы... взорваны мозги... Возница Духа режет слух... Зарницы зреют... чует нюх... Шипит, живёт, блистает всё! Сын Неба Солнцем вознесён!.. Всё стихло, всё поулеглось... Нейрон Полярный - Неба Гвоздь, По часовой овец ведёт, С его спины - наоборот... Конь, кобылица... ввод-развод... Овчинка... выделка... семь нот... Лель со Снегурочкой, Мизгирь... Паучьи сети... Тьма... Ни зги... 12:12 27.08.2015 * МААТ = МАТ = Богиня Истины (др. египт.) = МААД = АДАМ = ИЛ/НИЛ, ТИНА, ГЛИНА; МАТЬ/ТЬМА = МАТЕРИЯ, МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР (Закон сохранения материи); * ИОН = ion (г-реч. идущий, ток); * КИ = жизненная энергия; КИСЛОРОД = OXYGEN; * Т = крест Тау, Тор (молот/детородный орган); * ИЗ ЧРЕВА = ИЗ Ч(еловеческого) РЕВА/ГОЛОСА; * GOD = DOG/ПСИ = СИНЬ/ГОЛУБЬ/СЫН НЕБА = СИНИЙ ЦВЕТ; К РА = КРАСНЫЙ ЦВЕТ; БЕЛ/ЛЕБЕДЬ = ЛЕП = РА ДУГА; * bog = вод = ВОДИТЕЛЬ/ВОЖДЬ/ВОДА/ВОДОРОД; * ГАТ (транскрипция англ. БОГ/GOD); * HYDROGEN = ГИДРА = МНОГОГОЛОВ = ГОРГОНА МЕДУЗА = ГОР ГОНА МЁД УЗА; * HELIOS = ЖЕЛТОК/ЖЁЛТЫЙ, ГЕЛЬ/ЗЕЛЬ/ЗЕЛЁНЫЙ = СОЛНЦЕ; ОРАНЖ = РАЖНОЕ/РАЗНЫЕ ОТТЕНКИ; К РА; * МИГ = Zeit/jetzt/momentan/nun/augenblicklich = цайт/етц (нем.) = время = сей час; МОМЕНТ = ТЕНЬ MOM; * ЩУКА = КУСЧА; * ВОЗДУХ = Возница Духа;
|
|
|
Ибо Отец любит Сына и показывает Ему всё, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо, как Отец воскрешает мёртвых и оживляет, так и Сын оживляет, КОГО ХОЧЕТ. (от Иоанна 5:20,21)
|
|
|
|
|
|
|
Скиф_азиат, чему ты рад ? / Ждёт скоро смерть Злодея. И сколько весит этот зад / Узнает скоро Шея. == Но не всё так плохо. / Всё - гораздо хуже.
|
|
Кобылица... «Лобным местом ты красна...» (В. С. Высоцкий, 1975 год) *** Ты брала из рук морковку... Шла к реке воды напиться... На песке твои подковки... Кобылица... Кобылица... Воду втягивали страстно Губы, грива и ресницы... На коня саврасой масти Ты не смотришь, кобылица... Заливались где-то рядом В лесу певчие дрозды... Погляди лиловым взглядом На савраса без узды... Ты потряхивая чёлкой, Зелень щиплешь с нежным хрупом... Засмотрелся на девчонку... Очарован её крупом... Взвизгнул конь нетерпеливо, Как саврасу не влюбиться? «Что ты ржёшь, мой конь ретивый?» - Молодая кобылица... 1:55 28.08.2015
|
|
Краса * с утра я любуюсь красавицей Дарьей... с ней два экспоната, о них писал Дарвин... идёт передача мне Дарьи с экрана и тех, что так рано слезли с банана... когда-то давно, когда не было жвачки, их предок ломатый ходил на карачках... питался кореньями... чем бог подал и слаще морковки ничё не едал... и так бы и драл он штаны на коленях, не глядючи в небо глотая коренья... и так бы ходил на карачках народ, когда б ни оказия под новый год... закон тяготения снова сработал, не «яблочный спас» бог послал с неба - соты! упала сосна, а в сосне с мёдом борт... с зерном мёд смешали - сделали торт! а воск воскурили и жить стало легче - от сладкого мозг засветился, как свечи... смотрю телевизор, фантазию трачу... представил Дашулю себе на карачках... 7:46 29.08.2015 * КРАСА = ЗРАКА (то, что приятно видеть)
|
|
|
Данайский дар... данайцы - то греки!.. конечно же, греки... а речи - то реки... конечно же, реки... но как-то звучит всё там больно по-русски, опять «вернопилы»... ущелья грёз узки... опять та же «троица» - крепость та Троя... опять «кол давали» одной два героя... опять «кол давство»... та же тихая хитрость... и битвы, и битвы... за матку, за митру... опять эта лихость и слабое место... опять не понять: кто кого?.. чья невеста?.. опять воздаяние праведным гневом - удар превентивный... по вашим посевам... хотели «кобылу»? да, на!.. получите!.. «пилите, пилите же, Шура!.. пилите»... 1:49 30.08.2015 *** ПРЕВЕНТИВНЫЙ = PRAEVENTUS (лат.) = PRAEVEN TUS/SUT/СУД = ПРАВЕДНЫЙ СУД; ГЕРОЙ = ХЕР/ГОСПОД ИН/ОН; ГЕКТОР = ГЕР-ТОК = ГЕР/ХЕР/ГОСПОД ТОК; АХИЛЛ = ЛИХАЧ, ЛИХО; ЕЛЕНА = ЕЛЬ/БОГИНЯ ЕНА/ОНА; Родители: ЗЕВС/СВЕТ/ГЕЛИОС/СОЛНЦЕ в образе л-ЕБЕДЯ овладел Немесидой (той, которая не желала сама смешиваться - НЕ-МЕСИ-ДА/эффект Кулиджа)... Гермес/ХЕР МЕС/СМЕСИТЕЛЬ РАС положил это яйцо на колени Леды/ЦАРЕВНЫ ЛЫБЕДЬ = ЛАДА/ДАЛА; ТЕСЕЙ = СЕТЕЙ/СЕТИ/ПАУТИНА; Герой Аттики/ТАКТИКИ Тесей похитил Елену из Спарты; ПАРИСА СУД = ПА-УД РИСА/СИРА/ПОВОД УМА/СЕРОГО ВЕЩЕСТВА МОЗГА/«ЯБЛОКО РАЗДОРА» = ДРАКА БАБЬЯ ЗА ВОЖД-ЕЛЕННЫЙ УД; ЭРИДА = ДАРИЭ/ДАРЫ (да на! йцев, приносящие зло); ПАРИС = ПАСИР/СЕРОЕ ВЕЩЕСТВО МОЗГА/ПАССИВ/НЕДЕЯТЕЛЬНЫЙ/3.14здо-СТРАДАЛЕЦ; ОРЕСТ и ПИЛАД = П-ЛЕН/ЕЛЕНЫ и ПИ/Еление ЛАДЫ; ЯБЛОКО РАЗДОРА = ЯБ ЛОНО РАЗ-ДОРА/ЗАДОР/ЗА ДОРОГУ В УЗ-ЩЕЛЬЕ/ДРАКА ДОМИНИРУЮЩИХ САМЦОВ ЗА САМКУ;
|
так вот ещё, если взять скелет циферблата, то с моей стороны "ВРЕМЯ(условная единица)" будет прибывать, а с тыльной стороны/или же в зеркале одновременно убывать ((( . ))) что же это? ОДНО"ВРЕМЕННОЕ" состояние так называемых «ПРОШЛОГО - НАСТОЯЩЕГО МИГА - и БУДУЩЕГО» или, если быть точнее, НЕБЫТИЕ "ВРЕМЕНИ"??? выходит мы есть, а "ВРЕМЕНИ" - нет... ? )
|
|
|
|
|
У, ё! «Томится, но зловещей грёзы, Увы, прервать не в силах он...» (А. С. Пушкин) «...новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». ** (Откровение 2:17) «...[Он]** имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого». (Откровение 19:12) «И Ангел... клялся Живущим.., что времени уже не будет»; *** (Откровение 10:5,6) «...тогда в Иерусалиме... была зима». * (от Иоанна 10:22) *** много, много «уе», единиц условности... у монет ума нет, а цена им грош... * номинально рантье - мироед без совести... казначейский билет - номинально ложь... много, много в «уме» мер происходящего... много, много «пространств», «длин», «долгот», «времён»... дивовался «зиме» * «Ивана-рассказчика»... снежных масса убранств да не в тот район... просидел в ох..«уе» время и полвремени... реверс-аверс сторон... циферблат зерцал... на короткой волне манна откровения... сокровенный нейрон третьего лица...** 4:57 01.09.2015 * грош = groesse (нем.) большой, толстый; * иерей = жрец; жрать (есть идоложертвенное); жертва = жер/реж-тва/режь тварь; * * * «Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей»; (Песня Песней 2:11,12) «...впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». (Бытие 8:22) * * * *** НЕБЫТИЕ «ВРЕМЕНИ» я приводил уже визуальный пример с циферблатом: «00:00» - это ЕДИНАЯ точка конца и начала... а если взять скелет циферблата, то со стороны наблюдателя "ВРЕМЯ (условная единица)" будет прибывать, а с тыльной стороны/или же в зеркале, одновременно убывать! что же это? ОДНО"ВРЕМЕННОЕ" состояние так называемых «ПРОШЛОГО - НАСТОЯЩЕГО МИГА - и БУДУЩЕГО» или, если быть точнее, НЕБЫТИЕ "ВРЕМЕНИ"? выходит, что "ВРЕМЕНИ" - нет... бога хроноса моль побила peace/пьес нет... диеза съел бемоль... ***
|
Откроешь переплет с точкой ру, А там - сплошная НЕ_объятность с привкусом Поэтики скифа. Поэтики, от которой Дохнут мухи, И бегут тараканы. Но не будем - о грустном : День-то Бабье_Летний, Солнечный, Радостный. И пока Они помнят о нас, - всё образуется. == == == == == ==
|
а предок Рифмисикера с односельчанами его рода-племени диву давались: ПО ВОДЕ, АКИ ПОСУХУ!
|
Обвиниада... «Дескать, какая-то мразь называется Правдой, Ну а сама — пропилась, проспалась догола». (В. С. Высоцкий, 1977 год) «...и, раздев Его, надели на Него багряницу» (от Матфея 27:28) «[Он был] облечён в одежду, обагрённую кровью. Имя Ему: "Слово Божие"». (Откровение 19:13) «...итак, когда собрались они, сказал им Пилат: кого хотите, чтобы я отпустил вам: Варавву, или Иисуса, называемого Христом?» (от Матфея 27:17) «Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить». (от Матфея 27:20) «Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Варавву. Варавва же был разбойник». (от Иоанна 18:40) «...тогда в Иерусалиме... была зима». (от Иоанна 10:22) *** воскрес из мёртвых львиный рык, воскрес великий и могучий... Могучий Русский Праязык в сугробе горнем мёрз и в кручах... всему начало «Ор»!.. ор: «Да»! от вспышки молнии великой плевала комьями звезда... за шматом шмат с коры драл лыко поток энергии всесильной... невидимой... любвеобильной... и в иступлении звезда икру метала с криком: «Да»!.. Ток не иссяк на полуслове - драл лыко со звёзды в алькове! драл лыко и за шматом шмат ор дал вербальный аромат... полнеть планетами светилу, звезде передавая силу, не внове... этому искусству поток учил всегда изустно... как рак, забившийся в улитку, народ без памяти, вил свитки... любил чернилами чертить тотемы, лабиринтов нить... орава вновь гудит: «Варавву»! зачем ораве Божья Слава?.. не внове... овену бок ранят... не в нове... что возьмёшь с барана?.. 15:30 02.09.2015 «Cлово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». (1-е Иоанна 2:14) * ОВЕН = НОВЕ = НОВАЯ ВЕСТЬ; * ИИСУС = Иже Из Слова Укъ Слова = Из Уст Слова/Бога = имя ему «СЛОВО БОЖИЕ»; ЖИВОЕ; * ПАТМОС = МОСТ ПА/П-РА-ОТЦА; * РАЗБОЙНИК = РАЗБОЙ НИК/ИКН = РА ЗБОЙ = ЙОБРАЗ/ЁБРАЗ ИК(о)Н; ОБРАЗ/ИКОНА; * ПИЛАТ = ЛАПТИ плёл = лапоть умыл руки; не надо 3.14зду в лапти одевать; КРУЖЕВА; * САТРАП = РАСПЯТ/РАСТЯПА/САТРЯП/; САМОВЛАСТЬЕ = SATRAPES = ЗАТРАПЕЗНО/ВЕТХО; «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого...». (Евреям 4:12) * ЗАВИСТЬ = ЗАВИСИМОСТЬ/КАБАЛА/РАБСТВО; «...из зависти» (от Матфея 27:18); * ДАО = АОД; «и сказал Аод: у меня есть до тебя, слово Божие...» (Судьи 3:20); СПИ С ДАО! «Но они НЕ ПОНЯЛИ слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить Его о сем слове боялись». (от Луки 9:45) «Но они ничего из этого НЕ ПОНЯЛИ; слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного». (от Луки 18:34) «НЕ ПОНЯЛИ, что Он говорил им об Отце». (от Иоанна 8:27) «...но они НЕ ПОНЯЛИ, что такое Он говорил им». (от Иоанна 10:6) «Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение; но они НЕ ПОНЯЛИ». (Деяния 7:25) «...ибо есть скопцы, которые из чрева матернего РОДИЛИСЬ ТАК; и есть скопцы, которые оскоплены ОТ ЛЮДЕЙ; и есть скопцы, которые СДЕЛАЛИ САМИ СЕБЯ СКОПЦАМИ для Царства Небесного. КТО МОЖЕТ ВМЕСТИТЬ, ДА ВМЕСТИТ». (от Матфея 19:12)
|
|
ВРЕМЯ - это мера (наказания), а не простор, срок чтобы поняли ДО СТА ТОЧНО
|
ЛЕТ = ТЕЛ НОСИТЕ НАДЁЖУ... щас ливо оставацца
|
|
воля ваша
|
|
Силён ты, ум! По белому... *** «Повариха и ткачиха Ни гугу - но Бабариха, Усмехнувшись, говорит: "Кто нас этим удивит?"...» (А. Пушкин) «Нам попугай грозил загадочно Пальмовой веточкой...» (Л. Дербенев) «...свет – это огонь...» (от Филиппа, 66) «Тот, кто обладает знанием истины, - свободен. Свободный не творит греха...» (от Филиппа, 110) «Хозяйство мира-из четырёх видов, в хранилище их содержат: из воды, земли, воздуха и света. И хозяйство Бога подобно этому из четырёх: из веры, надежды, любви и знания» (от Филиппа, 115) *** к чудесам имея слабость, но чудес не замечая, жаждал хлеба люд и зрелищ - чуйка люд не подвела... им явился представитель их чудесных интересов... послужить пришёл он людям и поправить их дела... но народ ведь не обманешь ни ослом, ни веткой пальмы, дескать, сами мы оттуда, сиречь с пальмы, не с небес... и вообще, все боги - гады! * - дали то, что губит массы... люд плевался, как верблюды, блюдя веры интерес... вер блюдили мы немало... вот Огонь хоть..взять - опала! это что же за подарок? уголь, дым, а был же лес... веру то в Огонь сломало... мы бород тут всей отарой опалили с пылу, с жару... дай Огня, шоб в шерсть не лез... «в свете* есть иное диво» там огонь с водой бурливо вкупе пару поддают... на огонь там воду льют... баню «плотник» им срубил... в купину воды налил... в купине не опалит! люд! мозгами шевели!.. *** * СВЕТ = РУСЬ; НА СВЕТ БОЖИЙ = НАРУСЬ/НАРУЖУ/НА РУСЬ!; УМ = МУ!/КОРОВА/КОРАН/КОРА МОЗГА ВСЕВЫШНЕГО/РЁВ СВЯЩЕННОЙ КОРОВЫ/ГЛАС БОЖИЙ; ЧУДО = ЧУ/ЧУЙКИ/ПРЕДЧУВСТВИЯ/СВЯЗИ ДО/ДОРОГА/ПУТЬ; КУПИНА = КУПАЛЬНЯ/КАДКА/КАДУШКА/БАССЕЙН/ТЕРМЫ/ОКУНАНИЕ/ОБРЯД КРЕЩЕНИЯ ВОДОЙ/БАНЯ; ПИЛИГРИМ = ПИЛИ ГРИМ/МАКИЯЖ/НАКЛЕЙКИ/ЯРЛЫКИ/СТЕРЕОТИПЫ; «Пилите же, Шура, пилите...»; ПАЛОМНИК = ЛОМАЙ/ПОЛОМАЙ ГРИМ/МАКИЯЖ/НАКЛЕЙКИ/ЯРЛЫКИ/СТЕРЕОТИПЫ; SILENTIUM = СИЛЁН ТЫ, УМ!/СИЛА ЛЕНТ/ИЗВИЛИН/ЛЕНТ МЕДИ УСА/УМА = МОЛЧАНИЕ (лат.) = ЗОЛОТО/AURUM = УМ АУР; * GOD = БОГ/ГАТ(с англ./транскрипция) = GOD/DOG = ПСИ/ПСОГОЛОВЦЫ/ДУХ (СВЯТОЙ/СВЕТ); ПЛОТНИК = ИЗ ПЛОТИ И КРОВИ/СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ; 20:10 04.09.2015 ***
|
ОГОНЬ - ПОДАРОК ПРОМЕТЕЯ... так нет же! подайте лукавым ОГОНЬ, который не жжёт... фокусы идите к АХАЛАЙ-МАХАЛАЮ в ЦИРК смотреть... ВСЕ ВЕЩИ МИРА/ПРИРОДЫ или лечат/приносят пользу или же убивают/наносят ущерб... надоело писать инструкции для шерстиклоксов... НЕ СУЙТЕ ЯЗЫК В РОЗЕТКУ... ЛИЗНИ РОЗЕТКУ! - это И Р О Н И Я! хотя розетки разные есть... ПРИРОДА НАДЕЛИЛА ВСЕ "ВЕЩИ" НЕОБХОДИМЫМИ СВОЙСТВАМИ И НЕВИДИМЫМИ НИТЯМИ СВЯЗАНО ВСЁ В ПРИРОДЕ - ЭТО ЧУДО И ЕСТЬ... ИЗУЧАЙТЕ, а не ждите факиров... разве это ОГОНЬ, что не обжигает? 13 Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. (Матф.5:13) 50 Соль - добрая [вещь]; но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. (Мар.9:50) 34 Соль - добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее? 35 ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит! (Лук.14:34,35)
|
А потом честные гости На кровать слоновой кости Положили молодых И оставили одних. В кухне злится повариха, Плачет у станка ткачиха - И завидуют оне Государевой жене. А царица молодая, Дела вдаль не отлагая, С первой ночи понесла.
|
|
богатый - грабитель других клеток тела, все клетки важны... богатый - раковая опухоль...
|
пример? смотрите новости... клетки штурмуют вокзалы
|
|
|
так горлинка/орлики поют в наших краях: КО УШКУ - КО УШКУ
|
|
|
Порыв любви... ты спустилась в бассейн к воде передом, взгляд скользнул мой по малым глубинам... трепет кожи твоей был мне передан дефицитом гемоглобина... я старался держаться фарватера, твой купальник менял ватерлинию... ты вошла в бассейн лавой кратера и волной обдала меня сильною... мне волной передалось волнение тела девичьего, загорелого... под купальником более-менее удалось разглядеть тело белое... «лежаки» отложили газеты, приспустили очки свои долу... а один, ослеплённый тем светом, положил под язык валидолу... порыв ветра со страстью неистовой развязать твой купальник пытался... под купальником что-то выискивал и, как я, от любви задыхался... 7:23 11.09.2015
|
|
|
Хромец... «И взошло солнце...; и хромал он на бедро своё». (Бытие 32:31) *** «...я видел Бога лицем к лицу...» (Бытие 32:30) «Бога не видел никто никогда...» (от Иоанна 1:18) *** вот зерно никто не учит, а оно растёт и зреет... отдаёт прирост всецело на развод и на корма... и добро, как солнца лучик, пусть несильно кумпол греет... не насилуй под прицелом, чтоб ссыпали в закрома... сверху вниз смотреть не надо, разобраться лучше с толком... по плодам суди о древе, всякий плод - имей свой прок... дай-то бог, так нет же, гады - так намнут друг другу холку, что уже на разогреве - вот он бог, а вот порог... просто всё и примитивно... всё само себя научит... по остатку и сверяйтесь и бросайте на весы... произрос вегетативно из ребра цветочек лучший... есть контакт - соединяйтесь, не забыв спустить трусы... дай-то бог, иль кто ещё там... один хром, другой казнён... богу богово... возьмёт он... мал, велик... абы умён... 17:02 11.09.2015 *** УМ = МУ!/КОРОВА/КОРАН/КОРА МОЗГА ВСЕВЫШНЕГО/РЁВ СВЯЩЕННОЙ КОРОВЫ/ГЛАС БОЖИЙ; ПЕНУЭЛ = ПЕЛЭНУ/ПЕЛЕНА/ПЛЕН/ПЕНА = БЕЛЫЙ СНЕГ; («...тогда в Иерусалиме... была зима» от Иоанна 10:22) ЖИЛЫ = ЛЫЖИ («...и доныне сыны Израилевы не едят жилы...» Бытие 32:32); АРХОНТЫ = ХАРОНТЫ/ХАРОН/СУ-ГРОБ/ПОХОРОНЫ (...что вы ищете живого между мёртвыми?» от Луки 24:5); «[Бог] не есть Бог мёртвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь». (от Марка 12:27) «Избыток жизненной силы становится славой. Избыток славы порождает жестокость. Замыслы появляются от срочной нужды, знание проистекает из борьбы. Закоснелость вырастает из упрямства. Успех в управлении приходит к тому, кто сведущ в потребностях людей». (Чжуан-Цзы)
|
а что? другие сыны? как вам жилы? ндравятся?
|
Как, в кружок усевшись под азалии, Поедом — с восхода до зари — Ели в этой солнечной Австралии Друга дружку злые дикари. Но почему аборигены съели Кука, За что — неясно, молчит наука...
|
|
я стою на асфальте в лыжи обутый... то ли лыжи не едут, то ль не то я обутый?
|
|
|
|
Одноногий Куй * завидовал Сороконожке, Сороконожка завидовала Змее, Змея завидовала Ветру, Ветер завидовал Глазу, а Глаз завидовал Сердцу. Куй сказал Сороконожке: «Я передвигаюсь, подпрыгивая на одной ноге, и нет ничего проще на свете. Тебе же приходится передвигать десять тысяч ног, как же ты с ними управляешься?» — А чему тут удивляться? — ответила Сороконожка. — Разве не видел ты плюющего человека? Когда он плюет, у него изо рта вылетают разные капли — большие, как жемчуг, или совсем маленькие, словно капельки тумана. Вперемешку падают они на землю, и сосчитать их невозможно. Мною же движет Небесная Пружина во мне, а как я передвигаюсь, мне и самой неведомо. Сороконожка сказала Змее: «Я передвигаюсь с помощью множества ног, но не могу двигаться так же быстро, как ты, хотя у тебя ног вовсе нет. Почему так?» — Мною движет Небесная Пружина во мне, — ответила Змея. — Как могу я это изменить? Для чего же мне ноги? Змея говорила Ветру: «Я передвигаюсь, сгибая и распрямляя позвоночник, ибо у меня есть тело. Ты же с воем поднимаешься в Северном Океане и, все так же завывая, несешься в Южный Океан, хотя тела у тебя нет. Как это у тебя получается?» — Да, я с воем поднимаюсь в Северном Океане и лечу в Южный Океан. Но если кто-нибудь тронет меня пальцем, то одолеет меня, а станет топтать ногами — и сомнет меня. Пусть так — но ведь только я могу ломать могучие деревья и разрушать огромные дома. Вот так я превращаю множество маленьких непобед в одну большую победу. Только истинно мудрый способен быть великим победителем! (Чжуан-цзы) * Одноногий Куй — мифическое животное, похожее на быка, но с одной ногой...
|
|
Увы, И.Домбровский прав. Неограниченная свобода высказываний - это полный абзац. Нет модератора - нет ничего внятного, нет приличного поведения. Полный абзац, азиатская вседозволенность. Авторы высказываний на всевозможных языках на русском переплёте. Дескать, а причём тут язык ? Куда хочу - туда гребу. Нет, ребята-демократы, это уже голимый обезьянник, пустая трескотня. Пока-пока.
|
факир был пьян (2000 лет) и фокус не удался...
|
|
загадка: чёрное на одной ноге? -негр, инвалид Отчечественной войны... чёрное на двух ногах? .... -два негра, инвалида Отечественной войны... чёрное на трёх ногах? - рояль
|
|
Примитивные фигуры... меня не удивят 3D-фигуры, хоть белый то, хоть чёрный будь квадрат... из всех фигур я б выбрал одну дуру и в выборе стал сам бы виноват... в ней есть весьма таинственное что-то, приятнее всех водных процедур... заполню ли собой её пустоты? - пустот не сосчитать у этих дур... мелькают предо мной пустые лица, пустые, фигурально говоря... ведь, если можно в пустоту влюбиться, то пустотой то называют зря... 2:06 14.09.2015
|
если ПУСТОТА, пусть и ВЕЛИКАЯ, то в чём она? ...а если она в чём-то, то разве это ПУСТОТА? - нет! это - СОДЕРЖАНИЕ... "но, чёрт возьми, Холмс"! - в ЧЁМ?
|
|
|
Прерванный вздох... как мне взгляд твоих глаз дорог, только взгляд и уже небо... пики гор сверху - не горы, всё меняет небес чрево... я тобой наяву брежу... мне срывает любовь крышу... ты меня без ножа режешь... кто послал мне тебя свыше? я ему оборву перья! о колено погну стрелы... вепрь раненый, дикий зверь я, неотёсанный, огрубелый... только взгляд твоих глаз - небо... кровь горячая... снег белый... ты живёшь в моём сне, дева... ты святая... почти небыль... я тобой наяву брежу... изнутри... из себя вышел... на снегу крови след реже... я люблю... я люблю... слышишь? 6:48 15.09.2015
|
|
Х РА Мы... «А Он говорил о храме тела Своего». (Иоанн 2:21) «Храма же я не видел в нём, ибо Господь Бог Вседержитель - храм его, и Агнец». (Откровение 21:22) «...не здоровые имеют нужду во враче, но больные...» (Матфей 9:12) *** для кого-то клетка, для кого-то храм... Книгу Книг* брал редко в руки Мандельштам... пухом голубиным выстлан крестный путь, для кого перина, для кого-то жуть... Книга Жизни, Осип, - это Жизни Глубь... для кого-то проседь, для кого-то рупь... не бывает пусто перекрестие - передал изустно Дух* известие... для кого-то клетка, для кого-то храм... Горлица на ветке - Божия Искра... 10:28 15.09.2015 *** * Книга Жизни = «Голубиная» Книга = Глубь-Книга (древне-славянский эпос); * Глубь = БУЛ Г(лас) = БЫЛЬ = БЫТИЕ; * Белый Голубь = Дух Святой (символ); «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его - Агнец». (Откровение 21:23)
|
БОЛВАН = НА В ЛОБ/НАКОНЕЧНИК/КАПСУЛА С ПИЛОТОМ; ИСТУКАН = НА КУСТИ/НА ВКУСИ/КУЩИ/НА К УСТИ/ГОВОРИ; КУМИР = К УМИР/К ТОМУ СВЕТУ/УМ РИК/ДОМЫСЕЛ УМА/СЕРОГО ВЕЩЕСТВА МОЗГА; КАПИЩЕ = КА-ПИЩЕ/К ПИЩЕ ЧРЕВА/УМА/КРУГ ПОЗНАННОГО; ТРЕБИЩЕ = ТР-ЕБИЩЕ/ТРЕБА/НАД-ЛЕ-ЖИТ/КРУГ НЕПОЗНАННОГО; РОД = ДОР/ТОР/ТВОР/ОР = ПУТЬ; ИДОЛ = ЛОДИ/КОРАБЛИ; ХОРО = ГОРО/ГОРОХ/КРУГ; ХОРОШО = ХОРО ШО/ШЁЛ = ХОД ПО КРУГУ/ХОРОВОД;
|
ГЛУБЬ = ГОЛУБЬ/ПРГОЛУБЬ/ЛЮБОВЬ ГЛБ = Б Л Г = БЛАГИЙ/ВЛАГА/ВЛАГАЛИЩЕ/ЧРЕВО БЛГ = БУЛГАРИЯ/РА = УЛЕЙ ГАР/ГОР/ГОВОР ГОРЫ = КАРПАТЫ/ГОРБАТЫ = ХОПРЫ/ГОРБЫ БЛГ = М БУЛГАКОВ/МАСТЕР И МАРГАРИТА/ГОСПОД и МАР-ГАРИТА/ГАРЬ МАРЫ/САТИР
|
|
|
«...Никто не благ, как только один Бог». (Матфей 19:17); (Марк 10:18); (Лука 18:19);
|
«Не было ни неба, ни земли, а была только тьма и вода, смешанная с землей, как жидкое тесто. Долго ходили Бог и Сатана по воде, наконец утомились и решили отдохнуть. А отдохнуть негде. Тогда Бог приказал Сатане: – Нырни на дно моря и вытащи несколько крупинок земли со словами: „Во имя Господне, иди, земля, за мною“, и неси мне наверх. Сатана, нырнул на дно моря, захватил горсть земли и думает себе: „Зачем мне говорить: „Во имя Господне“, чем я хуже Бога?“ Зажал он землю в кулаке и сказал: – Во имя мое, земля, иди за мною. Но когда он вынырнул, оказалось, что в руках у него нет ни песчинки. Сатана снова нырнул на дно, набрал горсть земли и снова сказал: – Во имя мое, иди, земля, за мной. И снова ничего не вытащил. Бог сказал ему: – Ты снова меня не послушался и захотел сделать по-своему. Однако напрасна твоя затея, ничего у тебя не выйдет. Ныряй и скажи, как я тебя научил. Сатана нырнул в третий раз, набрал земли, и, когда он упомянул имя Божье, ему удалось вытащить пригоршню земли. Взял Бог эту землю, посыпал по воде, и на ней образовался небольшой пригорок с травой и деревьями. Бог, утомившийся от работы, лег и заснул, а Сатану взяла досада, что он не такой всемогущий, поэтому решил он Бога утопить. Взял Сатана Бога на руки, чтобы бросить в воду, и видит, что земля перед ним приросла на десять шагов. Он побежал к воде, чтобы утопить Бога, но по мере того, как он бежал, земля все прирастала и прирастала, и Сатана никак не мог добежать до воды. Положил Сатана Бога на землю и думает: „Земля тоненькая, как скорлупа. Я прокопаю яму до воды и брошу туда Бога“. Но сколько он ни копал, не смог докопать до воды. Вот почему на свете так много земли – ее „набегал“ Сатана, когда хотел уничтожить Бога. Тем временем Бог проснулся и сказал: – Теперь ты понял, что ты бессилен по сравнению со мной – земля и вода подчиняются мне, а не тебе. А яма, которую ты выкопал, понадобится тебе самому – под пекло» если кто играл в "ЦИВИЛИЗАЦИЮ": «ОН ПОБЕЖАЛ К ВОДЕ, ЧТОБЫ УТОПИТЬ БОГА, НО ПО МЕРЕ ТОГО, КАК ОН БЕЖАЛ, ЗЕМЛЯ ВСЕ ПРИРАСТАЛА И ПРИРАСТАЛА, И САТАНА НИКАК НЕ МОГ ДОБЕЖАТЬ ДО ВОДЫ...»
|
|
— Я — ученик Конфуция, — ответил Цзы-Гун. — Не из тех ли ты многознающих, которые восхваляют мудрецов, чтобы встать над другими? Не из тех ли ты, что в одиночестве щиплют струны и печально поют, торгуя в мире своим именем? Если бы ты забыл про свой дух и освободился от своей телесной оболочки, ты, может быть, и приблизился бы к правде. Но ты ведь сам с собой сладить не можешь, где тебе найти управу на всю Поднебесную... Если не можешь побороть себя, тогда живи, как живётся, и не насилуй дух, — сказал Чжань-цзы. — Не уметь себя побороть и притом насильно себя удерживать означает «быть раненным дважды». А тот, кто «ранен дважды», долго не проживёт...
|
Большое знание безмятежно-покойно. Малое знание ищет, к чему приложить себя. Великая речь неприметно тиха, Малая речь гремит над ухом...
|
ТАЛАНТ = АТЛАНТ/ОТЛАДКА/ОТ ЛАНТ/СВЕТ ОТ СВЕТА
|
|
«Крупеничку, увезли далеко от родины и предали тяжелой работе. Освободила ее из неволи вещая старушка. Она превратила девицу в гречневое зернышко, принесла его на Русь и бросила на родную землю. Зерно обернулось королевной, а из шелухи его выросла гречиха. По другому рассказу, старушка, принеся гречневое зерно на Русь, схоронила его в землю, семя дало росток и породило былинку о семидесяти семи зернах. Повеяли буйные ветры и разнесли эти зерна на семьдесят семь полей. С той поры и расплодилась гречиха по святой Руси»... ТАК "МОИ-СЕЙ" (СЕЯТЕЛЬ СВОЕГО ЗЕРНА/СЕМЕНИ/РОДУ-ПЛЕМЕНИ) отобрал 70 "своих" и увёл из пустыни на ЛУЧШИЕ/ПЛОДОРОДНЫЕ ЗЕМЛИ, где стал работать САМ-НА-САМ, прототип ВЫШЕ...
|
|
И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли МОЛНИИ и голоса, и громы и землетрясение и великий град. (Откровение 11:19) «И рече Господь: буди небо хрустальное и буди заря, и облака, и звезды! И ветры дунул из недр своих, и рай насадил на востоке, и сам Господь воссел на востоке в лепоте славы своей, а гром – глас Господень, в колеснице огненной утвержден, а МОЛНИЯ – слово Господне, из уст Божьих исходит. Потом создал Господь море Тивериадское, безбрежное, и сниде на море по воздуху… и виде на море гоголя плавающа, а той есть рекомый сатана – заплелся в тине морской. И рече Господь Сатанаилу, аки не ведая его: ты кто еси за человек? И рече ему сатана: аз есмь бог. – А мене како нарещи? Отвечав же сатана: ты Бог Богом и Господь Господем. Аще бы сатана не рек Господу так, тут же бы сокрушил его Господь на море Тивериадском...» «...что вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов. Говорит им: как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит: ...сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему? (Матфей 22:42-45)
|
(Лука 20:44) И рече Господь Сатанаилу, аки не ведая его: ты кто еси за человек? «Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас». (Матфей 25:12) «...тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи! Господи! отвори нам; но Он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы». (Лука 13:25)
|
Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошёл далее. (Иоанн 8:58,59)
|
«Бог, утомившийся от работы, лег и заснул, а Сатану взяла досада, что он не такой всемогущий, поэтому решил он Бога утопить. Взял Сатана Бога на руки, чтобы бросить в воду, и видит, что земля перед ним приросла на десять шагов. Он побежал к воде, чтобы утопить Бога, но по мере того, как он бежал, земля все прирастала и прирастала, и Сатана никак не мог добежать до воды. Положил Сатана Бога на землю и думает: „Земля тоненькая, как скорлупа. Я прокопаю яму до воды и брошу туда Бога“»
|
ПЕРУН = ВНУК ГРОМОВНИКА = ПЕРНУ/ГРОМ/СЛОВО/МОЛВА/МОЛНИЯ/СВЕТ PYR/pyr = ОГОНЬ/руг-ань/МАТ/МААТ/МАТЬ/ТЬМА PYR = ПЕРУН = ВНУК ГРОМОВНИКА = ПЕРНУ/ГРОМ/СЛОВО/МОЛВА/МОЛНИЯ/СВЕТ/ПИРАМИДА
|
|
|
|
Секлет в шкафу... жил оратор Демосфен, буквы путал: «свен, овен»... дабы стал язык остёр, сто камней во рту он стёр... за щеками их носил и орал, что было сил - заглушал и глубь и высь, моря шум вдали и в близь... «клеть - се клеть, 3D-каркас» - раздавался его глас... «мы три дата?!» - ор, лиц крик - оси нарисуй, старик! рот, поев камней, немел, Демосфен, поднявши мел, написал на весь забор: «Митридат» и «Евпатор»... 12:47 18.09.2015
|
|
|
ИСА = АЗИ ИСАИЯ = АЗИЯ
|
|
|
|
|
ЧЁРНЫЙ ЧЕЛОВЕК = ТЁМНАЯ ЛОШАДКА/КОНЬ/КОН = ТЕМН/МЕНТ/МЕНТАЛЬНОСТЬ;
|
|
|
i am new to this blog. you can watch bollywood actress wallpaper at Pngfever
|
|
|
|
|
|
ИВАН ГЕЛЬ ЛИЕ от Фил/ЛИВ И ПА, 121
|
ИВАН ГЕЛЬ ЛИЕ от Фил/ЛИВ И ПА, 67
|
ИВАН ГЕЛЬ ЛИЕ от Фил/ЛИВ И ПА, 67
|
ИВАН ГЕЛЬ ЛИЕ от Фил/ЛИВ И ПА, 67
|
|
|
(Иса и Я 24:8,9) ГУСЛЕЙ = Г(слияние) УЗ СЛЕЙ СИКЕРА = САКУРА
|
|
РАЯ = РА = СОЛНЦЕ/ВОС-ТОК/ВОС-ХОД ВОС = ВС = ВЫСШИЕ СИЛЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АЙНЫ = ЯНЫ = ИВАНЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИВАН ГЕЛЬ ЛИЕ от Фил/ЛИВ И ПА, 16 АРХОНТ = ХАРОН/ГРОБОВЩИК/ПОХОРОНЫ ИСТИНЫ = А-ПОКРИФ-ФАЛЛОС = КРИВДА
|
|
Это потому, что у них интернета не было. Иначе для чего бы они так бережно относилиссь к своим черновикам? Возьмите ПСС своего любимого Достогевского - там целые тома неотредактированной Федором Михайловичем мутоты. И многое малопонятное в классическрм тексте становится более ясным по прочтении именно черновиков. Я уж не говорю о ПСС Льва Толстого и и Ивана Тургенева. Я сам пукбликовал в Интернете исключителтьно черновики. Из-за природной лени, надо полагать. Исключение было одно - "Прошение о помиловании" пресловутое.
|
Ки ки реки! лето - это когда тело, тело - это пока юн ты, лето - это пока вера... это связка и тел бунты... это крики, речей реки, с кислородом огонь крови... во дородные человеки веки подняли, хмуря брови... огоньки - хороша ёлка... реки скованы льдом белым... Рики-тики клыком колким убивает змеиное тело... там на куче трещат яйца - Рики-тики убил наглых... наяву бы вот так взяться, а пока только на бумаге... 9:26 21.09.2015
|
|
СА-ВАЛО-СА Ф САВАОФ ФЕРТЬ ХЕРЪ ОТЪ ЦИ ЧЕРВАЛЬ = ВЕРТИ ХЕР ОТ ГРУДИ ДО АЛЕНЬКОГО ЦВЕТОЧКА смотреть в глаголице как выглядит этот ряд буков ОТЪ в глаголице это груди женщины, а поверх часть буквы ТВЕРДО ф - вид Хер сверху = фаллос/залупа это ФЕРТЬ = ВЕРТЬ = ВЕРТЕТЬ/ВЕРТЕП Y - клин, женская вагина ЧЕРВЬ В АЛЬ то есть РУССКАЯ ГЛАГОЛИЦА - это и ИЕРОГЛИФ и ФОНЕМА и АБРЕВИАТУРА одновременно
|
|
|
|
гонец с кисетом камней... ты дык ты дык...прибыл...
|
гонец с кисетом камней... ты дык ты дык...прибыл...
|
ЧЕРВЬ В АЛЬ = ЗАМОРИТЬ ЧЕРВЯЧКА = ГДЕ МЯГКОЕ плбеждает ТВЁРДОЕ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДОГ МА = МА ДОГА/ПСИ/ГОГ-МАГОГ/МАТКА БОЗКА/МАТЬ = ТЬМА;
|
я знаяю, миф ли это, нет, но Александр Великий (Камандонский) вылил флягу воды в песок, когда всё его войско претерпевало жажду... а сегодня? даже если эти деньги заработаны умом, таким как у ВМ к примеру, или талантом, таким как у меня хоть вот взять... разве это справедливо ехать на авто стоимостью 6,5 млн.рублей, а это стоимость целого дома, когда в стране есть бездомные? это аморально! ни один ум стаи не достоин того, чтобы есть в два-три-четыре-пять-шесть раз больше, чем может вместить его желудок... или мы не стая? не одна страна?
|
Х = ИКС = СКИ Х ЗАГЕН = СКИЗАГН = СКАЗАТЬ
|
Х = ИКС = СКИ Х ЗАГЕН = СКИЗАГН = СКАЗАТЬ
|
|
|
|
|
|
Пир Рода... тихо плачет свеча - слёзы капают в чашу... ты стоишь на коленях пред вечным огнём... боги тонут в речах, но в огонь вера наша в разрисованных пнях - то им в ноги, то пнём... мы на этих пинках набиваем колени... безответно с доски смотрит идол... пенёк... попеняем на крах и с рассеянной ленью беспредметной тоски воспалим огонёк... а к обеду победу потерпим над ленью... надоело бороться - одерживать крах... молодое объеду в любви поколение... отворяй же воротца, будь в ласках пестра... миру мир, пиру пир - до пирушек все падки... зажигаем ламбаду с грехом пополам... самый древний кумир масло ест из лампадки, как губную помаду я ем с милых дам... 4:56 26.09.2015 «...и сия есть победа, победившая мир, вера наша». (Иван I 5:4) *** FEUER = ВЕУЕР = ВЕРУЕ (нем.); FLAME = ФЛАМЕ = ПЛАМЯ (англ.) = ЯЗЫКИ ПЛАМЕНИ; PYR = pyr/МАТ(ь)/ТЬМА/АТОМ = ОГОНЬ (г-реч.) = ПИРАМИДА/МЁД-ПИРА/ПИР ПИРОВАТЬ/ПИРОЖКИ ПЕЧЬ; ПЕРЕЦ = PYR ЦЕ = ЖЖЁТ РОТ-ТОР; ПРЯ-НОС-ТЬ; ПРИРОДА = ПИР РОДА/ПИР ДАРОМ/ТОР-ЖЕСТВО/ЛЕСНОЙ ПОЖАР; ИСКРА = ИСК/ИКС/Х РА = Х РА/ХРАМ; РА = RU/RUB/BUR (англ.) ТЁРКИ/БУРЧАНИЕ = СОЛНЦЕ/ЗВЕЗДА/СВЕТИЛО/ПРОСВЕТ = СВЕТ/ВЕСТ/СЛОВО; ТРУТ = В/ФИТ-ИЛЬ = ОГНИВО/К-РЕМЕНЬ = ДОБЫВАТЬ ОГОНЬ ТРЕНИЕМ/ТРУД; КРЕСАЛО = ВОСКРЕСЕНИЕ; БЕРЕГИНЯ = БЕРЕГИ/СБЕ-РЕЧЬ ОГНЯ/ЯЗЫКИ ПЛАМЕНИ; PYR/РУ-С-АЛКА/МАВКА/МАК ВО/МА-СЛО-ВО; Х = ХЕР = HERR/ГОСПОД (нем.); ОГОНЬ = ВЕЧНЫЙ/С-ВЕЧИ/СВЕТ = АГНЕЦ/ОВЕН/НОВЕ; ЗАВЕТ/ЗОВ/ЗВ-УК/ОУК; ТОР = МОЛНИЯ/МОЛВА = РОТ = ВОРТ/ВОРД (нем./англ.) = В РОТ/В РОД/В ДОР/ВЗДОР = СЛОВО; СПИЧКА = СПЕЧЬ/ПЕЧЬ/ТЯГА = SPEECH (англ.) = РЕЧЬ = ГОЛОС/ГРОМ/ТОР/МОЛНИЯ = МОЛВА/МОВА; ГОР = РОГ = ГОРЕНИЕ/ГОРА/ГАЗ/ТОРФ/ТОР; НЕФТЬ = НЕВТЬ/В НЕТЬ/НЕДРА = ФАКЕЛ = ФАК/МАК КОЛ; ГРЕЧЕСКИЙ ОГОНЬ = ОГНЕВАЯ УСТАНОВКА = ОГНЕМЁТ с характерным ВОЕМ/Г(слияние)РЕЧЕСКИЙ; КРАСНЫЙ ПЕТУХ = ОГОНЬ/ПОТУХ; ЖАР-ПТИЦА = РАЖ/rug-ПТИЦА = ПТИЦА РУГ/Х = pyr/МАТ(ь)/ТЬМА/АТОМ = КОВЁР-САМОЛЁТ; КОНЬ-ОГОНЬ = К ОН/ЗА КОН;
|
ЖАЛИСТНАЯ.... не уходят певцы-ветераны, ведь им рано ещё уходить... соль земли в этих ртах, этих ранах... ничего в эти рты не клади... 8:33 27.09.2015
|
Cara Mengatasi Ejakulasi Dini Dengan Cepat Cara Membuat Ramuan Tradisional Obat Ejakulasi Dini Cara Mengatasi Ejakulasi Dini Obat Ejakulasi Dini Paling Ampuh 10 Cara Mengatasi Ejakulasi Dini Tanpa Obat Kimia Obat Ejakulasi Dini Permanen Cara Menyembuhkan Ejakulasi Dini Cara Memperlambat Ejakulasi Dini
|
|
Мы почти что... мы почти что незнакомы, лишь встречаемся глазами... мельком, вскользь и мимоходом, с замиранием в груди... с безразличьем, будто в коме, а глаза... те смотрят сами... и в хорошую погоду и когда идут дожди... как узнать, что означает этот взгляд твой мимолётный? может это ты случайно, ну а может быть и нет... коктейль радости с печалью, помесь ангела с животным... снова взгляд необычайный на душе оставил след... 1:29 28.09.2015
|
|
|
- Ничего... просто не зацвели и всё...
|
|
|
|
|
Happy Diwali
|
Rangoli Designs
|
|
|
Topless... запросил я в «яндексе»: «где скачать любимую?» - списки пола слабого потекли рекой... отыскал любимую, мне так необходимую, брал её за пикселы, трогал день-деньской... из большой коллекции выбрал с взглядом искренним, и отправил другу, мол: «как тебе она?» экземпляр единственный... друг, как будто выстрелил: «меня с твоей любимою застукала жена»... 9:27 30.09.2015
|
|
Diwali Quotes Diwali Shayari Diwali
|
|
|
|
|
Free Recharge Free online Recharge Recharge Tricks How To get free Recharge Online Free Recharge Discount coupons Discounts coupons for Rooms Discounts coupons for Fligts Discount coupon of ecommerce website Free Recharge online Tricks Trending Freebies Freebies Happy diwali 2015 Wishes in English Happy diwali 2015 Wishes in hindi Happy diwali 2015 Wishes in Marathi Happy diwali 2015 Wishes in Tamil Happy diwali 2015 Wishes in Punjabi Happy diwali 2015 Wishes Happy diwali 2015 Wishes in Images Happy diwali 2015 Quotes Happy diwali 2015 Quotes in english Happy diwali 2015 Quotes in Hindi Happy diwali 2015 Quotes in Wallpapers Happy diwali 2015 Quotes Images Happy diwali 2015 Quotes Tamil Happy diwali 2015 Quotes Marathi Happy diwali 2015 Quotes in Punjabi Happy diwali 2015 Quotes Happy diwali 2015 Wishes Happy diwali 2015 SMS Happy diwali 2015 Shayari Happy diwali 2015 Wallpapers Happy diwali 2015 Images Happy diwali 2015 Songs
|
|
|
|
|
ИБО СТОЛЬКО ЧУШИ слышу по ТЕЛЕвиЗОРУ, что стыдно за РЕДАКТОРА выпустившего это в СВЕТ...
|
(Коран 1:16-18)
|
|
Bcякий paз, кoгдa мы oтмeняeм cтиx или зacтaвляeм eгo зaбыть, мы пpивoдим лyчший, чeм oн, или пoxoжий нa нeгo. Paзвe ты нe знaeшь, чтo Aллax нaд любoй вeщью мoщeн? (Коран 2:102) И гoвopят иyдeи: "Xpиcтиaнe - ни нa чём!" И гoвopят xpиcтиaнe: "Иyдeи - ни нa чём!" A oни читaют пиcaниe. Taк гoвopят тe, кoтopыe нe знaют, пoдoбнoe иx cлoвaм. Aллax paccyдит мeждy ними в дeнь вocкpeceния oтнocитeльнo тoгo, в чeм oни pacxoдилиcь. (Коран 2:109)
|
(Коран 2:100)
|
(Коран 2:41)
|
(Коран 2:186)
|
(Коран 2:245)
|
И мoжeт быть, вы нeнaвидитe чтo-нибyдь, a oнo для вac блaгo, и мoжeт быть, вы любитe чтo-нибyдь, a oнo для вac злo, - пoиcтинe, Aллax знaeт, a вы нe знaeтe! (Коран 2:210,211)
|
A ecли бы иx oтцы ничeгo нe пoнимaли и нe шли бы пpямым пyтём? (Коран 2:167)
|
(Коран 2:28) И вoт cкaзaл Ибpaxим: "Гocпoди! Пoкaжи мнe, кaк Tы oживляeшь мepтвыx". Oн cкaзaл: "A paзвe ты нe yвepoвaл?" Toт cкaзaл: "Дa! Ho чтoбы cepдцe мoe ycпoкoилocь". Cкaзaл Oн: "Boзьми жe чeтыpex птиц, coбepи иx к ceбe, пoтoм пoмecти нa кaждoй гope пo чacти иx, a пoтoм пoзoви иx: oни явятcя к тeбe cтpeмитeльнo, и знaй, чтo Aллax вeлик и мyдp!" Te, кoтopыe pacxoдyют cвoи имyщecтвa нa пyти Aллaxa, пoдoбны зepнy, кoтopoe выpacтилo ceмь кoлocьeв, в кaждoм кoлoce cтo зepeн. И Aллax yдвaивaeт, кoмy пoжeлaeт. Пoиcтинe, Aллax oбъeмлющ, знaющ! (Коран 2:260,261)
|
(Коран 2:255)
|
(Коран 2:274)
|
...Ecли вы oткpытo дeлaeтe милocтыню, тo xopoшo этo; a ecли cкpoeтe eё, пoдaвaя eё бeдным, тo этo - лyчшe для вac и пoкpывaeт для вac вaши злыe дeяния... (Коран 2:271) Peчь дoбpaя и пpoщeниe - лyчшe, чeм милocтыня, зa кoтopoй cлeдyeт oбидa. Пoиcтинe, Aллax бoгaт, кpoтoк! (Коран 2:263)
|
(Коран 2:229)
|
|
|
Manfaat Eye Care Softgel Green World Untuk Mata Eye Care Softgel Green World Eye Care Softgel Pengobatan Mata Minus Alami Cara Paling Ampuh Mengobati Mata Katarak Secara Alami Vitamin Penggemuk Badan Obat Penggemuk Badan Di Apotik Harga Obat Spirulina Plus Tablet Obat Kuat Di Apotik Obat Ejakulasi Dini Di Apotik Obat Ejakulasi Dini Di Apotik
|
Спи с Дао... руку на сердце ложа, положа... под хвостом рукой вожжа, раздража... завязала конский хвост, я прохвост: обожаю телезвёзд в полный рост... в пуп дышу и до пупа, на попа... тупо сглупа пересудит толпа... но зато я до копейки твой весь, я приду, а ты мне скажешь: «спи здесь»... ногу на себя ложа, буду жа... нежно жать и обожать, обнажа... с неба свалится звезда в назида... обнажённая езда... борозда... 5:49 05.10.2015
|
|
|
|
Я влюблён... вот опять предо мной сидит, ничего, что одетая... а во мне, как в Пиа́ф Эди́т, всё вибрирует где-то там... её пальчики нежные, ноготки - а́лы туфельки... я влюблён и попрежнему на любовь планы ве́лики... увлекли её прелести - грудь, ну прямо как на дрожжах, я скриплю своей челюстью, сам с собою стал, на ножах... авторучка меж пальцами эротично продетая... мне намёк такой нравится, самопишущим методом... жахнул в грудь кулаком себя, как в тамта́м, так мне нравится! посмотрю ей вослед, любя́, я люблю её, задницу... 9:34 05.10.2015
|
Cara Mengobati Asma Pembuluh Darah Pecah Bisa Sembuh Penyebab Lutut Bunyi Obat Lemah Syahwat Obat Mata Minus Secara Herbal Cara Berhenti Merokok Obat Penyakit PES Khasiat Jelly Gamat dan Spirulina Obat Faringitis Obat Radang Dinding Lambung Obat Jerawat Punggung Cara Mengobati Sakit Mata Cara Mengobati Asam Urat dan Rematik Obat Hipotensi Obat Herbal Hipokalemia Obat Penyakit Kulit Impetigo Obat Diabetes Gestasional Cara Mengatasi Nefritis Menyembuhkan Mata Minus dan Silinder Obat Batuk Rejan Anak Obat Tradisional Lambung Perih Obat Penurun Lemak Darah Obat Pengapuran Sendi Cara Mengobati Jengger Ayam Obat Telinga Sakit dan Berdengung Obat Stroke Ringan Cara Menaikan Trombosit Obat Hepatitis B Untuk Bayi Ramuan Herbal Obat Fistula Ani Obat Tradisional Cerebral Palsy Vitamin Penambah Nafsu Makan Anak Cara Membersihkan Paru-Paru Obat Hemangioma Pada Bayi Obat Biduran Obat Pengencer Darah Kental Obat Luka Lambung Akut Obat Glaukoma Akut Cara Menyembuhkan Hisprung Pada Anak Obat Benjolan di Ketiak Obat Rematik Tulang Obat Hidrosefalus Pada Bayi Obat Tuba Falopi Tersumbat Cara Cepat Menghilangkan Panu Cara Mengobati Amandel Pada Anak Pencegahan Penyakit Sirosis Hati Obat Tradisional Sinusitis Kronis Obat Herbal Emfisema Obat Telinga Bernanah Atau Congek Cara Menghaluskan Selulit Setelah Melahirkan Obat Tradisional Varises Khasiat Gastric Health Tablet Obat Herpes Genital Obat Penghilang Migrain Obat Peluruh Batu Ginjal Alami Pengobatan Jantung Bocor Pada Bayi Obat Herbal Batuk Berdarah Obat Kanker Hati Obat Kanker Payudara Obat Herbal Penyakit Kulit Vitiligo Obat Infeksi Saluran Kemih Obat Alami Mata Merah dan Berair Pengobatan Tradisional Pilek Menahun Cara Membersihkan Rahim Pasca Keguguran Tanpa Kuret Suplemen Penambah Gairah Seksual Pria Penanganan Epilepsi Saat Kejang Menyerang Alternatif Pengobatan Gudik Bernanah Dengan Cepat Tips Penyembuhan Pasca Operasi Batu Ginjal Tips Pengobatan jantung Bengkak Tanpa Operasi Resep Obat Tradisional Untuk Penyakit Kuning Cara Mengobati Penyakit Hepatitis C Penyakit Eksim dan Cara Penyembuhannya Obat Benjolan Tidak Beracun di Leher Cara Mengobati Miom dan Kista Tanpa Operasi Cara Menyembuhkan Mata Katarak Tanpa Operasi Cara Menghilangkan benjolan di Pergelangan Tangan Cara Menurunkan Darah Tinggi Dengan Cepat dan Alami Pengobatan Kelamin Bernanah Pada Pria Pengobatan Kanker Mulut Rahim Stadium Awal Apakah Keputihan Bisa Mengakibatkan Kanker Serviks? Cara Cepat Menghilangkan Bekas Cacar Air di Wajah Pantangan Makanan Penderita Kolesterol Tinggi Ciri-Ciri Orang Terkena Diabetes Melitus Obat Tradisional Diabetes Melitus Tipe 2 Obat Psoriasis Menahun Obat Kolesterol Tradisional Obat Kelebihan Darah Putih Pengobatan Sesak Nafas pada Anak
|
Jelly Gamat Spirulina Cara Mengatasi Sperma Cepat Keluar Obat Ejakulasi Dini Permanen
|
На 328851 // Шизофреннику-рифмоплёту. " ... Болезнь у шизофреника часто проявляется в беседах с самим собой, при этом его как бы завораживает сам факт того, что буквы составляются в слова, он начинают ковырять в каше из слов пальцем и получает от этого что-то вроде удовольствия (само_удовлетворение). ... " Тьфу, тьфу ! Нечистая сила.
|
|
как сказал поэт: «тупо сглупа пересудит толпа...»
|
Obat Penyubur Kandungan Dari Dokter Obat Penambah Gairah Di Apotik Obat Ejakulasi Dini Di Apotik Obat Kuat Herbal Di Apotik Obat Penggemuk Badan Di Apotik Obat Penambah Gairah Di Apotik Obat Penambah Gairah Di Apotik Obat Spirulina Di Apotik Obat Ejakulasi Dini Di Apotik Obat Lemah Syahwat Impoten Di Apotik Obat Kuat Di Apotik Obat Kuat Di Apotik
|
|
ПРАНА = PYR НА/НА ПИР/ОПЕКА-ОБЕ КА = ПРЯНО/ПИК-АНТНО/ПРЯМО = НАПРА(вь) = НА ПРАВЬ/ПУТЬ; ПРАНА = НАП РА = ПАН РА = СВЕТЛЫЙ БОГ/БЕЛЫЙ ЦАРЬ; КУНДАЛИНИ = КУДА НАЛИЛИ/КУДА ЛИНИЯ/БОРОЗДА/3.14ЗДА = СПИ С ДАО; КУНДАЛИНИ = УК/ОУК ДА ЛИНИИ = АЛ/ЛИНИИ; САМАДХИ = САМА-Д-ХИ/Х-ИД = САМОХОД/В ПУТЬ/САМ ДЫХ/ВДОХ = САМ Х = ХЕР/БОГ/GOD-ГАД/DOG/ПСИ;
|
|
|
ПАН РА = ПО НРАВУ/ПОНРАВИТЬСЯ
|
|
НАПРАВЬ НА ПУТЬ ИСТИННЫЙ - молятся верующие...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
картинка, распаляющая воображение здесь: http://www.stihi.ru/2015/10/07/3131 Тону с... ты с неестественной улыбкой пыталась тонус мой поднять... 9:53 07.10.2015 *** «Сотовый мёд каплет из уст твоих, невеста; мёд и молоко под языком твоим, ...рассадники твои - сад с гранатовыми яблоками...» (Песня Песней 4:11-13) «Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, твоею миловидностью! Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я: влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви её; и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков»; (Песня Песней 7:7-9) *** как учёному Ньютону мне ударило в голову... щупаю с удивлением участившийся пульс... красотою окутана душа чистая, голая... мимолётно явление, но шепчу: «я женюсь»... зрело райское яблоко за холмами, за реками... невесть где, за туманами, моё чудо живёт... я прошу тебя, облако, выручай человека... не небесной дай манны, дай запретный сбить плод... 10:35 07.10.2015
|
Как это у вас получается? Начинается ожиданием чуда, а кончается двусмыслицей. Стесняетесь вы своей любви, что ли?
|
|
|
Free Recharge Free online Recharge Recharge Tricks How To get free Recharge Online Free Recharge Discount coupons Discounts coupons for Rooms Discounts coupons for Fligts Discount coupon of ecommerce website Free Recharge online Tricks Trending Freebies Freebies Happy diwali 2015 Wishes in English Happy diwali 2015 Wishes in hindi Happy diwali 2015 Wishes in Marathi Happy diwali 2015 Wishes in Tamil Happy diwali 2015 Wishes in Punjabi Happy diwali 2015 Wishes Happy diwali 2015 Wishes in Images Happy diwali 2015 Quotes Happy diwali 2015 Quotes in english Happy diwali 2015 Quotes in Hindi Happy diwali 2015 Quotes in Wallpapers Happy diwali 2015 Quotes Images Happy diwali 2015 Quotes Tamil Happy diwali 2015 Quotes Marathi Happy diwali 2015 Quotes in Punjabi Happy diwali 2015 Quotes Happy diwali 2015 Wishes Happy diwali 2015 SMS Happy diwali 2015 Shayari Happy diwali 2015 Wallpapers Happy diwali 2015 Images Happy diwali 2015 Songs
|
|
|
* * * Быть поэтом – это значит то же, Если правды жизни не нарушить, Рубцевать себя по нежной коже, Кровью чувств ласкать чужие души. Быть поэтом – значит петь раздолье, Чтобы было для тебя известней. Соловей поет – ему не больно, У него одна и та же песня. Канарейка с голоса чужого — Жалкая, смешная побрякушка. Миру нужно песенное слово Петь по-свойски, даже как лягушка. Магомет перехитрил в Коране, Запрещая крепкие напитки, Потому поэт не перестанет Пить вино, когда идет на пытки. И когда поэт идет к любимой, А любимая с другим лежит на ложе, Влагою живительной хранимый, Он ей в сердце не запустит ножик. Но, горя ревнивою отвагой, Будет вслух насвистывать до дома: «Ну и что ж, помру себе бродягой, На земле и это нам знакомо». Сергей Есенин, август 1925
|
Цитата из «Дао-дэ цзин», глава XLV
|
|
|
ИНОНИЯ Пророку Иеремии 1 Не устрашуся гибели, Ни копий, ни стрел дождей, — Так говорит по Библии Пророк Есенин Сергей. Время мое приспело, Не страшен мне лязг кнута. Тело, Христово тело, Выплевываю изо рта. Не хочу восприять спасения Через муки его и крест: Я иное постиг учение Прободающих вечность звезд. Я иное узрел пришествие — Где не пляшет над правдой смерть. Как овцу от поганой шерсти, я Остригу голубую твердь. Подыму свои руки к месяцу, Раскушу его, как орех. Не хочу я небес без лестницы, Не хочу, чтобы падал снег. Не хочу, чтоб умело хмуриться На озерах зари лицо. Я сегодня снесся, как курица, Золотым словесным яйцом. Я сегодня рукой упругою Готов повернуть весь мир... Грозовой расплескались вьюгою От плечей моих восемь крыл. 2 Лай колоколов над Русью грозный — Это плачут стены Кремля. Ныне на пики звездные Вздыбливаю тебя, земля! Протянусь до незримого города, Млечный прокушу покров. Даже Богу я выщиплю бороду Оскалом моих зубов. Ухвачу его за гриву белую И скажу ему голосом вьюг: Я иным тебя, Господи, сделаю, Чтобы зрел мой словесный луг! Проклинаю я дыхание Китежа И все лощины его дорог. Я хочу, чтоб на бездонном вытяже Мы воздвигли себе чертог. Языком вылижу на иконах я Лики мучеников и святых. Обещаю вам град Инонию, Где живет Божество живых! Плачь и рыдай, Московия! Новый пришел Индикоплов. Все молитвы в твоем часослове я Проклюю моим клювом слов. Уведу твой народ от упования, Дам ему веру и мощь, Чтобы плугом он в зори ранние Распахивал с солнцем нощь. Чтобы поле его словесное Выращало ульями злак, Чтобы зерна под крышей небесною Озлащали, как пчелы, мрак. Проклинаю тебя я, Радонеж, Твои пятки и все следы! Ты огня золотого залежи Разрыхлял киркою воды. Стая туч твоих, по-волчьи лающих, Словно стая злющих волков, Всех зовущих и всех дерзающих Прободала копьем клыков. Твое солнце когтистыми лапами Прокогтялось в душу, как нож. На реках вавилонских мы плакали, И кровавый мочил нас дождь. Ныне ж бури воловьим голосом Я кричу, сняв с Христа штаны: Мойте руки свои и волосы Из лоханки второй луны. Говорю вам – вы все погибнете, Всех задушит вас веры мох. По-иному над нашей выгибью Вспух незримой коровой Бог. И напрасно в пещеры селятся Те, кому ненавистен рев. Все равно – он иным отелится Солнцем в наш русский кров. Все равно – он спалит телением, Что ковало реке брега. Разгвоздят мировое кипение Золотые его рога. Новый сойдет Олимпий Начертать его новый лик. Говорю вам – весь воздух выпью И кометой вытяну язык. До Египта раскорячу ноги, Раскую с вас подковы мук... В оба полюса снежнорогие Вопьюся клещами рук. Коленом придавлю экватор И, под бури и вихря плач, Пополам нашу землю-матерь Разломлю, как златой калач. И в провал, отененный бездною, Чтобы мир весь слышал тот треск, Я главу свою власозвездную Просуну, как солнечный блеск. И четыре солнца из облачья, Как четыре бочки с горы, Золотые рассыпав обручи, Скатясь, всколыхнут миры. 3 И тебе говорю, Америка, Отколотая половина земли, — Страшись по морям безверия Железные пускать корабли! Не отягивай чугунной радугой Нив и гранитом – рек. Только водью свободной Ладоги Просверлит бытие человек! Не вбивай руками синими В пустошь потолок небес: Не построить шляпками гвоздиными Сияние далеких звезд. Не залить огневого брожения Лавой стальной руды. Нового вознесения Я оставлю на земле следы. Пятками с облаков свесюсь Прокопытю тучи, как лось; Колесами солнце и месяц Надену на земную ось. Говорю тебе – не пой молебствия Проволочным твоим лучам. Не осветят они пришествия, Бегущего овцой по горам! Сыщется в тебе стрелок еще Пустить в его грудь стрелу. Словно полымя, с белой шерсти его Брызнет теплая кровь во мглу. Звездами золотые копытца Скатятся, взбороздив нощь. И опять замелькает спицами Над чулком ее черным дождь. Возгремлю я тогда колесами Солнца и луны, как гром; Как пожар, размечу волосья И лицо закрою крылом. За уши встряхну я горы, Копьями вытяну ковыль. Все тыны твои, все заборы Горстью смету, как пыль. И вспашу я черные щеки Нив твоих новой сохой; Золотой пролетит сорокой Урожай над твоей страной. Новый он сбросит жителям Крыл колосистых звон. И, как жерди златые, вытянет Солнце лучи на дол. Новые вырастут сосны На ладонях твоих полей. И, как белки, желтые весны Будут прыгать по сучьям дней. Синие забрезжут реки Просверлив все преграды глыб. И заря, опуская веки, Будет звездных ловить в них рыб. Говорю тебе – будет время, Отплещут уста громов; Прободят голубое темя Колосья твоих хлебов. И над миром с незримой лестницы, Оглашая поля и луг, Проклевавшись из сердца месяца, Кукарекнув, взлетит петух. 4 По тучам иду, как по ниве, я, Свесясь головою вниз. Слышу плеск голубого ливня И светил тонкоклювый свист. В синих отражаюсь затонах Далеких моих озер. Вижу тебя, Инония, С золотыми шапками гор. Вижу нивы твои и хаты, На крылечке старушку мать; Пальцами луч заката Старается она поймать. Прищемит его у окошка, Схватит на своем горбе, — А солнышко, словно кошка, Тянет клубок к себе. И тихо под шепот речки Прибрежному эху в подол, Каплями незримой свечки Капает песня с гор: «Слава в вышних Богу, И на земле мир! Месяц синим рогом Тучи прободил. Кто-то вывел гуся Из яйца звезды — Светлого Исуса Проклевать следы. Кто-то с новой верой, Без креста и мук, Натянул на небе Радугу, как лук. Радуйся, Сионе, Проливай свой свет! Новый в небосклоне Вызрел Назарет. Новый на кобыле Едет к миру Спас. Наша вера – в силе. Наша правда – в нас!» Сергей Есенин, 1918
|
(Коран 2:43)
|
|
|
(Коран 2:210,211)
|
|
|
зарабатывать на этом мерзко, откажитесь от этого.
|
|
Едет к миру Спас. Наша вера – в силе. Наша правда – в нас!» НА ОСЛЕ = НАСМЕШКА = ОСЛЕП = ОСЛО/ОСЛАВИТЬ/СЛОВО = БОГ «Кто-то с новой верой, Без креста и мук, Натянул на небе Радугу, как лук». Ecли oни coчли тeбя лжeцoм, тo вeдь были oбъявлeны лжeцaми пocлaнники дo тeбя, кoтopыe пpиxoдили c яcными знaмeниями, и c книгaми, и c пиcaниeм ocвeщaющим. (Коран 3:181)
|
где ЛОГИКА? ась? ЛОГОС/ГОЛОС? ГОЛОСА те же...
|
|
|
|
(Коран 2:143)
|
(Коран 2:7)
|
|
|
|
|
|
Если немы... слёзы, упования... на чужом горбу... знания, незнания, видел я в гробу... Господи помилуй, Господи спаси... не едим мы жилы, любим иваси... под стеную плачут жирные коты... кто им дал подачку, ежели не ты? та взяла за ноги голос золотой... богатырь убогий встал с ноги, не с той... щёки подставляйте каждым днём с огнём... ждите... ожидайте... завтра... заживём... вот приедет барин... шапки всем намнёт... шашлыков нажарим, речи, сладкий мёд... страх сидит в вас, люди, коль вам нужен Спас... Он за вас добудет, но и съест... за вас... 10:55 08.10.2015
|
(Иезекииль 37:8)
|
|
(Филипп, 15) «Поэтому и доныне сыны Израилевы не едят жилы...» (Бытие 32:32)
|
|
|
|
Shaandaar Full Movie Watch Online
|
|
Ван Гог... «...oни ни в чём нe пoвpeдят Aллaxу»... (Коран 3:170) *** бесы, вестники о Боге, не рождайте в людях страх... вас так Гога и Магога, а над нами... сам Аллах... много, много, много бесов, во главе шумит Шайтан... озирает с интересом, всех, кого низвел в обман... утонул в зеркальной глади, превратившись в слух Ван Гог... ухо в хлам* отсек не глядя, узумился... не оглох... рассёкал магнитной кистью, краски яркие бросал... мир подсолнечный... и листья... и святые голоса... 7:09 09.10.2015 * Малх (от Иоанна 18:10) Иллюстрация: Сеятель на закате солнца, 1888. Холст, масло, 64х80 Государственный Музей Креллер-Мюллера, Оттерло
|
|
|
|
|
|
ST = САНКТ = или SaTaNa ??? СЛОВО ТВЕРДО НАШЕ
|
ST = САНКТ = или SaTaNa ??? СЛОВО ТВЕРДО НАШЕ ...почему так? ...потому - гласных не было тогда
|
|
|
|
(от Филиппа, 58)
|
(от Фомы, 58)
|
|
...не внимая Иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. (Титу 1:14) Bcякий paз, кoгдa мы oтмeняeм cтиx или зacтaвляeм eгo зaбыть, мы пpивoдим лучший, чeм oн, или пoxoжий нa нeгo. Paзвe ты нe знaeшь, чтo Aллax нaд любoй вeщью мoщeн? (Коран 2:102)
|
...Читaйтe жe, чтo лeгкo вaм из Kopaнa... Читaйтe жe, чтo лeгкo вaм из нeгo... (Коран 28:22) ...ecть тaкиe, кoтopыe CВOИМИ ЯЗЫКAМИ ИCКPИВЛЯЮТ ПИCAНИE, чтoбы вы coчли этo пиcaниeм, xoтя oнo и нe пиcaниe, и гoвopят: "Этo - oт Aллaxa", a этo - нe oт Aллaxa, и гoвopят oни нa Aллaxa лoжь, знaя этo. (Коран 3:73)
|
(Марк 4:9) (Марк 4:23) (Марк 7:16) 33 [Иисус], отведя его в сторону от народа, вложил персты Свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его; и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: "еффафа", то есть: отверзись. И тотчас отверзся у него слух и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому. Но сколько Он ни запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились, и говорили: все хорошо делает, - и глухих делает слышащими, и немых - говорящими. (Марк 7:33-37)
|
|
|
|
|
|
|
|
--- ---- " ... [176.59.72.167] Скиф-азиат - АПОКРИФ = А ПОКРЫВ ФАЛЛОС/ХЕР/ГОСПОДь = ПОКРОВ/ПО КРОВь ... " ---- ---- Особенно трогательно это соединение в одну строчку : " ... ФАЛЛОС/ХЕР/ГОСПОДь ... " А спросите этого персонажа : " А вы верите в Бога ? " И вы, внимательный читатель, попробуйте предсказать, что же он ответит ? Вот такая у нас сегодня религиозность.
|
Пренебреги топотом , говори шёпотом. Татищев любовью ведом , жертвою очищен. Предательство сотри и предусмотри изнутри. Спокойное дело управляет телом. Себя оберегайте, внимания избегайте. Не допускай, Серёжа, к сердцу прохожих. Наши обиды несчастья виды. От обид, кроме шуток, болит желудок. Община для обучения чина. Слово отца от разума - кольца. Всё по судьбе Оле, но не по воле. События, пане , результат отношений наших желаний. От людских отличные законы Бога цикличные. Москва всосала 99 % капитала. Попали многие в тиски логики. Обиды копим - друг другу копья. Бог не гневлив, но законами справедлив. Закон, а не случай, справедливость текуча. Справедливость реальная индивидуальная. Выбор не более - план, желание, воля. Каковы слова - душа такова. С собой не сражайся - сразу сдавайся. Болеешь шибко - указ на ошибки. Клетка снова реагирует на слово. Эмоции эти действуют и на другие, объекты. Заметьте-ка, иной раз вместо лекарства –этика. Узнаем всё вскоре об эйцехоре. Как ни бейся, вряд ли избежишь ктейса. Тело из отражений наших убеждений. Моя подружка - квасу кружка. Неживое любишь - аллергиком не будешь. Насилия вид нездоровит. Обижаться на ближних нечего - рак печени. Не страшен хаос хору в любую пору. Болезнь, по слухам, защита от распада душ, то знать надо. Стая, друг мой, управляет собой. Пиши - желудок раб пищи. Внемли - зло и боль учителя любви. Без бед смерти пояснений нет. Боль и зло мучат - любви и добру учат. Любовью через мозг зло пришло. Мучения узы учения. Благо ихо народу лихо. Души полёт мыслям формы даёт. Правильное слово здоровья основа. Ответственное сознание даёт мыслям понимание. Качественное мышление залог исцеления. Грязное мышление даёт отложение. Мир насилием мается - та накопившись взрывается. Нам ничего не выждать и в одиночку не выжить. Сознанием могла определить соотношение добра и зла. Приятели. Все собственники стяжатели. В решении не скор - до единогласия на кругу спор. Уймись, от ожиданий ближних отстранись. Их взашей - 90 вещей. Не немец? Будь на зло младенец. Как говорится добро и зло в душе творится. Человек и образован - в себя замурован. Перестать преображать, коль нечем соображать. Не бед при инерции в свет. От темноты погани спрячемся в гармонии. Смерть или разума крылья иметь. Обратим даровое в трудовое. Дело, труд - бессмертие ткут. Говори смело - невежество есть знание без дела. Там прения и ледяные юр отношения. Выборы в том, что ослы вождя зовут конём. Оратор, знающий, сидя выступающий. Образование, бывает, мышление убивает. Ярость и зло калечит тело. Речь, без сомнения, начало проявления. Гласными нараспев, помолись, успев. Верьте: всё видимое не в истинном свете. Нет болезней поветрия, коль золотая симметрия. Часто бывает - оружие себя убивает. Нет прощения противникам общего решения. Выставка та - образец бесцельного труда. Зло неуничтожимо, но в добро превратимо. Ограничение - предварительное научение. Мудрость она от сознания ограждена. Боль? Что ж мира ложь. Болезные, препятствия помощники, полезные. Правильное слово - здоровья основа. Легенда, Евгений, форма желаний и постижений. Многим ясно, что порой низким знание опасно. Сплотить изволь разум и контроль. От ясности много бед - поступай так, как бы её нет. Вот оно конкурентное - истинное животное. Гибельна , кто других мнений? Гонка безудержных потреблений. Кто не осознает, тот заболевает. Нет выше из искусств, чем сохранить баланс чувств.
|
Пренебреги топотом , говори шёпотом. Татищев любовью ведом , жертвою очищен. Предательство сотри и предусмотри изнутри. Спокойное дело управляет телом. Себя оберегайте, внимания избегайте. Не допускай, Серёжа, к сердцу прохожих. Наши обиды несчастья виды. От обид, кроме шуток, болит желудок. Община для обучения чина. Слово отца от разума - кольца. Всё по судьбе Оле, но не по воле. События, пане , результат отношений наших желаний. От людских отличные законы Бога цикличные. Москва всосала 99 % капитала. Попали многие в тиски логики. Обиды копим - друг другу копья. Бог не гневлив, но законами справедлив. Закон, а не случай, справедливость текуча. Справедливость реальная индивидуальная. Выбор не более - план, желание, воля. Каковы слова - душа такова. С собой не сражайся - сразу сдавайся. Болеешь шибко - указ на ошибки. Клетка снова реагирует на слово. Эмоции эти действуют и на другие, объекты. Заметьте-ка, иной раз вместо лекарства –этика. Узнаем всё вскоре об эйцехоре. Как ни бейся, вряд ли избежишь ктейса. Тело из отражений наших убеждений. Моя подружка - квасу кружка. Неживое любишь - аллергиком не будешь. Насилия вид нездоровит. Обижаться на ближних нечего - рак печени. Не страшен хаос хору в любую пору. Болезнь, по слухам, защита от распада душ, то знать надо. Стая, друг мой, управляет собой. Пиши - желудок раб пищи. Внемли - зло и боль учителя любви. Без бед смерти пояснений нет. Боль и зло мучат - любви и добру учат. Любовью через мозг зло пришло. Мучения узы учения. Благо ихо народу лихо. Души полёт мыслям формы даёт. Правильное слово здоровья основа. Ответственное сознание даёт мыслям понимание. Качественное мышление залог исцеления. Грязное мышление даёт отложение. Мир насилием мается - та накопившись взрывается. Нам ничего не выждать и в одиночку не выжить. Сознанием могла определить соотношение добра и зла. Приятели. Все собственники стяжатели. В решении не скор - до единогласия на кругу спор. Уймись, от ожиданий ближних отстранись. Их взашей - 90 вещей. Не немец? Будь на зло младенец. Как говорится добро и зло в душе творится. Человек и образован - в себя замурован. Перестать преображать, коль нечем соображать. Не бед при инерции в свет. От темноты погани спрячемся в гармонии. Смерть или разума крылья иметь. Обратим даровое в трудовое. Дело, труд - бессмертие ткут. Говори смело - невежество есть знание без дела. Там прения и ледяные юр отношения. Выборы в том, что ослы вождя зовут конём. Оратор, знающий, сидя выступающий. Образование, бывает, мышление убивает. Ярость и зло калечит тело. Речь, без сомнения, начало проявления. Гласными нараспев, помолись, успев. Верьте: всё видимое не в истинном свете. Нет болезней поветрия, коль золотая симметрия. Часто бывает - оружие себя убивает. Нет прощения противникам общего решения. Выставка та - образец бесцельного труда. Зло неуничтожимо, но в добро превратимо. Ограничение - предварительное научение. Мудрость она от сознания ограждена. Боль? Что ж мира ложь. Болезные, препятствия помощники, полезные. Правильное слово - здоровья основа. Легенда, Евгений, форма желаний и постижений. Многим ясно, что порой низким знание опасно. Сплотить изволь разум и контроль. От ясности много бед - поступай так, как бы её нет. Вот оно конкурентное - истинное животное. Гибельна , кто других мнений? Гонка безудержных потреблений. Кто не осознает, тот заболевает. Нет выше из искусств, чем сохранить баланс чувств.
|
Пренебреги топотом , говори шёпотом. Татищев любовью ведом , жертвою очищен. Предательство сотри и предусмотри изнутри. Спокойное дело управляет телом. Себя оберегайте, внимания избегайте. Не допускай, Серёжа, к сердцу прохожих. Наши обиды несчастья виды. От обид, кроме шуток, болит желудок. Община для обучения чина. Слово отца от разума - кольца. Всё по судьбе Оле, но не по воле. События, пане , результат отношений наших желаний. От людских отличные законы Бога цикличные. Москва всосала 99 % капитала. Попали многие в тиски логики. Обиды копим - друг другу копья. Бог не гневлив, но законами справедлив. Закон, а не случай, справедливость текуча. Справедливость реальная индивидуальная. Выбор не более - план, желание, воля. Каковы слова - душа такова. С собой не сражайся - сразу сдавайся. Болеешь шибко - указ на ошибки. Клетка снова реагирует на слово. Эмоции эти действуют и на другие, объекты. Заметьте-ка, иной раз вместо лекарства –этика. Узнаем всё вскоре об эйцехоре. Как ни бейся, вряд ли избежишь ктейса. Тело из отражений наших убеждений. Моя подружка - квасу кружка. Неживое любишь - аллергиком не будешь. Насилия вид нездоровит. Обижаться на ближних нечего - рак печени. Не страшен хаос хору в любую пору. Болезнь, по слухам, защита от распада душ, то знать надо. Стая, друг мой, управляет собой. Пиши - желудок раб пищи. Внемли - зло и боль учителя любви. Без бед смерти пояснений нет. Боль и зло мучат - любви и добру учат. Любовью через мозг зло пришло. Мучения узы учения. Благо ихо народу лихо. Души полёт мыслям формы даёт. Правильное слово здоровья основа. Ответственное сознание даёт мыслям понимание. Качественное мышление залог исцеления. Грязное мышление даёт отложение. Мир насилием мается - та накопившись взрывается. Нам ничего не выждать и в одиночку не выжить. Сознанием могла определить соотношение добра и зла. Приятели. Все собственники стяжатели. В решении не скор - до единогласия на кругу спор. Уймись, от ожиданий ближних отстранись. Их взашей - 90 вещей. Не немец? Будь на зло младенец. Как говорится добро и зло в душе творится. Человек и образован - в себя замурован. Перестать преображать, коль нечем соображать. Не бед при инерции в свет. От темноты погани спрячемся в гармонии. Смерть или разума крылья иметь. Обратим даровое в трудовое. Дело, труд - бессмертие ткут. Говори смело - невежество есть знание без дела. Там прения и ледяные юр отношения. Выборы в том, что ослы вождя зовут конём. Оратор, знающий, сидя выступающий. Образование, бывает, мышление убивает. Ярость и зло калечит тело. Речь, без сомнения, начало проявления. Гласными нараспев, помолись, успев. Верьте: всё видимое не в истинном свете. Нет болезней поветрия, коль золотая симметрия. Часто бывает - оружие себя убивает. Нет прощения противникам общего решения. Выставка та - образец бесцельного труда. Зло неуничтожимо, но в добро превратимо. Ограничение - предварительное научение. Мудрость она от сознания ограждена. Боль? Что ж мира ложь. Болезные, препятствия помощники, полезные. Правильное слово - здоровья основа. Легенда, Евгений, форма желаний и постижений. Многим ясно, что порой низким знание опасно. Сплотить изволь разум и контроль. От ясности много бед - поступай так, как бы её нет. Вот оно конкурентное - истинное животное. Гибельна , кто других мнений? Гонка безудержных потреблений. Кто не осознает, тот заболевает. Нет выше из искусств, чем сохранить баланс чувств.
|
Пренебреги топотом , говори шёпотом. Татищев любовью ведом , жертвою очищен. Предательство сотри и предусмотри изнутри. Спокойное дело управляет телом. Себя оберегайте, внимания избегайте. Не допускай, Серёжа, к сердцу прохожих. Наши обиды несчастья виды. От обид, кроме шуток, болит желудок. Община для обучения чина. Слово отца от разума - кольца. Всё по судьбе Оле, но не по воле. События, пане , результат отношений наших желаний. От людских отличные законы Бога цикличные. Москва всосала 99 % капитала. Попали многие в тиски логики. Обиды копим - друг другу копья. Бог не гневлив, но законами справедлив. Закон, а не случай, справедливость текуча. Справедливость реальная индивидуальная. Выбор не более - план, желание, воля. Каковы слова - душа такова. С собой не сражайся - сразу сдавайся. Болеешь шибко - указ на ошибки. Клетка снова реагирует на слово. Эмоции эти действуют и на другие, объекты. Заметьте-ка, иной раз вместо лекарства –этика. Узнаем всё вскоре об эйцехоре. Как ни бейся, вряд ли избежишь ктейса. Тело из отражений наших убеждений. Моя подружка - квасу кружка. Неживое любишь - аллергиком не будешь. Насилия вид нездоровит. Обижаться на ближних нечего - рак печени. Не страшен хаос хору в любую пору. Болезнь, по слухам, защита от распада душ, то знать надо. Стая, друг мой, управляет собой. Пиши - желудок раб пищи. Внемли - зло и боль учителя любви. Без бед смерти пояснений нет. Боль и зло мучат - любви и добру учат. Любовью через мозг зло пришло. Мучения узы учения. Благо ихо народу лихо. Души полёт мыслям формы даёт. Правильное слово здоровья основа. Ответственное сознание даёт мыслям понимание. Качественное мышление залог исцеления. Грязное мышление даёт отложение. Мир насилием мается - та накопившись взрывается. Нам ничего не выждать и в одиночку не выжить. Сознанием могла определить соотношение добра и зла. Приятели. Все собственники стяжатели. В решении не скор - до единогласия на кругу спор. Уймись, от ожиданий ближних отстранись. Их взашей - 90 вещей. Не немец? Будь на зло младенец. Как говорится добро и зло в душе творится. Человек и образован - в себя замурован. Перестать преображать, коль нечем соображать. Не бед при инерции в свет. От темноты погани спрячемся в гармонии. Смерть или разума крылья иметь. Обратим даровое в трудовое. Дело, труд - бессмертие ткут. Говори смело - невежество есть знание без дела. Там прения и ледяные юр отношения. Выборы в том, что ослы вождя зовут конём. Оратор, знающий, сидя выступающий. Образование, бывает, мышление убивает. Ярость и зло калечит тело. Речь, без сомнения, начало проявления. Гласными нараспев, помолись, успев. Верьте: всё видимое не в истинном свете. Нет болезней поветрия, коль золотая симметрия. Часто бывает - оружие себя убивает. Нет прощения противникам общего решения. Выставка та - образец бесцельного труда. Зло неуничтожимо, но в добро превратимо. Ограничение - предварительное научение. Мудрость она от сознания ограждена. Боль? Что ж мира ложь. Болезные, препятствия помощники, полезные. Правильное слово - здоровья основа. Легенда, Евгений, форма желаний и постижений. Многим ясно, что порой низким знание опасно. Сплотить изволь разум и контроль. От ясности много бед - поступай так, как бы её нет. Вот оно конкурентное - истинное животное. Гибельна , кто других мнений? Гонка безудержных потреблений. Кто не осознает, тот заболевает. Нет выше из искусств, чем сохранить баланс чувств.
|
|
многим толкователям известных живописцев давно известно, что на некоторых фрезках и картинах первоначально была обнажёнка, но ханжам было этого не вынести... и их гениталии покрывали по указке пап и тп... но откуда это знать знати от РП Лисинкеру, толкователю одной картины „Христос в пустыне”, г-на Крамского» (1874)... когда же этот "искусстввовед" поумнеет?
|
|
|
АПОКРИФ = ПОКРИФ ФАллос укрывательство человеческого естества присуще ханжам и идиотам...
|
|
|
Каким это известным живописцам «давно известно, что на некоторых фресках и картинах первоначально была обнажёнка»? Во-первых, почему давно? Потому что до появления рентгена? То есть они знали потому, что это были ИХ собственные картины и фрески? Они что: написали об этом? Каковы исходные данные хоть одного произведения, где это написано? В интернете какой-то нормой стало пороть абы какую ерунду? Ну пусть Куклин несёт и несёт ахинею. А вы что? Заразились? Вы довольно трезво рассуждали, отговаривая меня от поддельности одной фотографии… Что с вами стало?
|
|
Ещё в процессе работы фреска вызывала с одной стороны безграничное и безусловное восхищение, с другой — жёсткую критику[9]. Вскоре художник столкнулся с угрозой обвинения в ереси[9]. «Страшный суд» стал причиной конфликта между кардиналом Каррафой и Микеланджело: художник обвинялся в безнравственности и непристойности, так как он изобразил обнажённые тела, не скрыв гениталии, в самой главной христианской церкви. Кардиналом и послом Мантуи Сернини была организована цензурная кампания (известная как «Кампания Фигового листка»), целью которой было уничтожение «неприличной» фрески. Церемонимейстер папы римского, Бьяджо да Чезена, увидев роспись заявил, что «позор, что в столь священном месте изображены нагие тела, в столь непристойном виде» и что это фреска не для часовни папы, а скорее «для общественных бань и таверн». Микеланджело в ответ изобразил в «Страшном суде» Чезену в аду в виде царя Миноса, судьи душ умерших (самый нижний правый угол), с ослиными ушами, что было намёком на глупость, обнажённого, но прикрытого обмотавшейся вокруг него змеёй. Рассказывали, что, когда Чезена просил папу заставить художника убрать изображение с фрески, Павел III шутливо ответил, что его юрисдикция не распространяется на чёрта, и Чезена должен сам договориться с Микеланджело.
|
https://ru.wikipedia.org/wiki/Страшный_суд_(Микеланджело)
|
ЭТО ДОСТАТОЧНО ДАВНО? полагаю, что Воложин должен бы извиниться за свой выкрутас, но что ждать с моря погоды? здесь полно дураков
|
|
|
|
этого хватит до новага пришествия...
|
С. Есенин, фраг мент «Инония»
|
|
слово ЗИМА наврядли имело хождение в АФРИКЕ 2000 лет назад... сандалии Спасителя и его туника вызывают изумление, ему подручнее было бы в ЛЫЖАХ/ЖИЛАХ и овчином тулупе...
|
(Бытие32:32)
|
|
Поздняя... ранним утром морозным с неба сгинут все звёзды... сединой ляжет иней от остатков тепла.... я проснусь завтра поздно, жизнь диктуется прозой, может будут другие, ну а ты вот, ушла... из моей ушла жизни... всё стихия, капризы... на двуспальной кровати я лежу в тишине... обломала мне бивни... мысли схлынули ливнем... велика ли утрата?.. всё... забылся во сне... 7:04 10.10.2015
|
|
мне никто не возразил, либо потому что "верующие" не в материале, либо ещё причину нашли... там, в "писании" есть оговорка что "священники" подговорили НАРОД голосовать за БАНДИТА... ??? тогда я спрашиваю: НАРОД??? это от какого КОЛЛИЧЕСТВА ЧЛЕНОВ? 70? или ПЛЕМЯ??? выходит КУЧКА ротозеев пришедших любоваться РАСПЯТИЕМ им подобного, поставила пятно на народе? а как с теми, что скормили ЖИРАФА львам уже в наши дни?
|
|
ПОЛЕЗНОЕ + ПРИЯТНОЕ= ♥♥
|
Говорю вам – вы все погибнете, Всех задушит вас веры мох. По-иному над нашей выгибью Вспух незримой коровой Бог. И напрасно в пещеры селятся Те, кому ненавистен рёв. Все равно – он иным отелится Солнцем в наш русский кров. Всё равно – он спалит телением, Что ковало реке брега. Разгвоздят мировое кипение Золотые его рога. фрагмент, Сергей Есенин, 1918
|
|
Давайте объяснимся, а потом вы ещё раз напишете, надо ли мне перед вами извиняться. Христианское искусство, как и христианство, возникло как реакция на римскую безнравственность. И раз римское искусство было натуралистично, то христианскому ничего не оставалось, как идеализировать потустороннюю жизнь, антинатуралистичную. Христианское искусство поначалу пребывало в катакомбах. А перейдя в романские церкви, натурализм оставило воплощениям зла – зверям и чудовищам. И ни о какой наготе людской не могло быть и речи. Но христианскую идеологию стали предавать, причём сами священнослужители (как стали коммунисты – коммунизм, с этими привилениями и вообще с прицелом на потребительство). И дошло до рисования члена. Синьорелли «Воскрешение плоти» (1499-1502) – фреска в соборе Орвието. – Позднее Возрождение – предательство Высокого Возрождения с его гармонией высокого и низкого. Как было художнику по-художнически сказать «фэ» такому предательству? Микеланджело нарисовал, как и Синьорелли, тоже голые тела, зато исказил их пропорции (знаменитый стиль маньеризма, пришедший на смену стилю Позднего Возрождения). Кстати, Синьорелли нарисовал, что (вопреки католицизму) ВСЕ будут возрождены из праха, вне зависимости от грешности (грешите, мол, сейчас, сколько влезет). А Микеланждело (ему в пику) нарисовал, что каждому – по заслугам: кому в рай, кому в ад. Говорить при этом, что изображение именно членов у Микеланджело было богоугодным делом – нельзя. Всё христианство давно было предано. Именно поэтому меня возмутила попытка оправдать рисование членов как дело богоугодное – без ссылки на факты. Ссылка на «Страшный Суд» не годится. Ищите другой пример, или отказывайтесь от своих слов. Возмутился я не из-за христианских чувств, и из принципа: зачем писать безосновательно?!. Тяжело разве дать ссылку? Я старый человек. А у старых недостатки есть развитие их достоинств. Я чуть не всю жизнь дерусь за то, что никто со мной разделить не хочет. Я поэтому всегда стремился быть предельно доказательным. Теперь меня достаёт эта вокруг информационная война. Только и врут все всем. – Вот я и озлился.
|
|
Blogger tutor
|
Шизофренники вяжут веники. / Параноики рисуют нолики. / Те, которые просто нервные ... и т.д. - по известному тексту. Это дошедший до логического финиша - буйный азиат. Полный абзац.
|
ПО СУЩЕСТВУ? да пжлста, РИСОВАНИЕ ЧЛЕНА вы приравниваете к ПРЕДАТЕЛЬСТВУ? то есть лучше бы Иуде ЧЛЕН нарисовать было? ...в Ленинграде городе, скажем, на разводнои мосту? ДА? ...но там бы его затёрли "зимней резиной" ваших соотечественников и ничего бы не осталось для потомков... для меня картина/искуссство - это то, что за кадром ЕЁ, антураж... АНТУРАЖ не врёт и представляет собой хотя бы научный интерес... вы видели хоть одну СТАТУЮ с ОБРЕЗАННЫМ ЧЛЕНОМ, КРАЙНЕЙ ЕГО ПЛОТЬЮ? а картину? ??? Ищите другой пример, или ...мыльте верёвку. PS/ а богу и вправду всё равно как кто зачат - родит и всё... если вы об реинкарнации в эту объи-ТЕЛь.
|
И тотчас отверзся у него слух и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто.
|
329333 "Журнал Подъем" 2015-10-10 11:46:43 [188.120.133.128] Воложин - Скифу на 329254.
|
|
|
|
Если будете передёргивать – перестану читать. Вы говорили о религиозном искусстве. Нечего соскальзывать на иное.
|
Соломон нашёл себе во мне собеседника аккурат в тот момент, когда когда я должен покинуть поле РП... бедный мой заклятый друг... я оценил вашу угрозу не читать меня... как трогательно... я о вашем признании... выходит, что читали. Но я нахожу, что мне не пристало (зараза к заразе) здесь долее находиться... считайте, что я умер. Пошло участвовать в ОБРЕЗАННЫХ "ДИСКУССИЯХ"... дня не прошло, как 3/4 моих постов ПРИКРЫЛИ ФИГОВИНОЙ, которая в головах у модераторов.
|
далее по атрибутам христовым: лев = РЫК ОРРРР ОР ДА = ОР РТА! СИНЬ = СЫН = СИНАЙ/КИТ ТАУ = КИТАЙ = КИТ или 3 КИТА(три же буквы!) ЧИНА = СИНА = СИНА ГОГА и МАГОГА и так далее всё начало быть - СИНЬ ОР СИНЬ ОРА и тп
|
РОЗА = ОР ЗА и тп
|
СИНА ГОГА = ГОЛОС СЫНА/ЧИНА МА = МАТ/МААТ и тп
|
|
|
|
|
|
|
|
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аполлон Убитые Аполлоном: Аполлон сдирает кожу с Марсия Сыновья Амфиона и Ниобы. Алоады (версия). Амфилох (сын Алкмеона). Амфион. Аристодем. (версия) Ахилл. Гигант. дракон Дельфиний (он же Пифон). Еврит (сын Меланея). (версия) Исхий. Каанф (сын Океана). Киклопы. Коронида. (версия) Крагалей. Превращен в камень. Лин. (версия) Марсий. С него содрана кожа. Мелеагр. (версия) Пифон. Порфирион (гигант). (версия) Раг (сын Пиера). Превращен в сорную траву. Рексенор (сын Навсифоя). Тельхины. В образе волка. Титий. Флегий. Форбант, вождь флегиев. Побежден Аполлоном в кулачном бою. Фронтис (сын Онетора). Кормчий Менелая. Эфиальт (гигант).
|
|
|
|
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аполлон Женчины Аполлон и Дафна Его отвергли: богини Гестия, Кибела, Персефона, нимфа Аканфа, Алкиона-Марпесса, Болина, Грина, Дафна, Кассандра, Касталия, юноша Левкат, Синопа (версия). НЕ ОТКАЗАЛИ: Амфисса. Возлюбленная. Герофила сивилла (кимская сивилла). Называет себя женой Аполлона. Гипсипила. Возлюбленная. Некая Зевксиппа именуется возлюбленной Аполлона. Исса (дочь Макарея). Клития. Обычно именуется возлюбленной Гелиоса, отождествляемого с Аполлоном. Ниса (дочь Адмета). Окироя. Профоя. Некая возлюбленная Аполлона. Некая Стеропа именуется возлюбленной Аполлона. Халкиопа (дочь Комета). и многие другие. См. также ниже Потомство Аполлона. Зооморфизм присущ Аполлону заметно меньше, чем Зевсу. В виде собаки он возлёг с дочерью Антенора, в виде черепахи и змеи — с Дриопой.
|
|
|
|
|
богини Гестия/ГОСТЬЯ ИЗ БУД, К-ИБЕЛА, Персефона, нимфа Аканфа, Ал-ки-она-Мар-песса/ПЕЗgА, Болина/БОЛЬ/БЫЛЬ, Грина/ГИРНА/ГАРНА, Да-ф-на, Кассандра/КАСАТЬСЯ, Кас-талия/БРАТЬ ЗА ТАЛИЮ, юноша Левкат/ЛЕВЫЙ/ФАЗА ТОК, Синопа/СИН-О-ПА (версия).
|
|
|
|
Пара нас... где же Даша, что с чёлкою? - по каналам я щёлкаю... где предмет обожания малахольной любви?.. где же ты, раскрасавица? как канал называется? не запомнил названия, хоть реви, не реви... вот нашёл канал с ёлкою, там на ступе с метёлкою, некрасивая, старая, скачет Баба Яга... где ж ты, Дашенька, милая? щёлк: бассейн, Нептун с вилами... щёлк: кавказец с отарою... щёлк: нагая нога!.. где ж ты, Дашенька с чёлкою? - я с другими девчонками... весь в любовных историях, в завитках кинолент... только что от них толку-то? по каналам их щёлкаю... контрафакт, бутафория... а тебя в кино нет... где ж моя раскрасавица? чтоб я мог ей понравиться... где любовь малахольная? Новый год... дежавю... щёлк: вот жрёт, не подавится! перещёлк: в бане парятся... щёлк: вот бита бейсбольная!.. щёлк: в Ледовом ревю... где же Дашенька с чёлкою? - по каналам я щёлкаю... вот в кино бы красивая вышла б пара из нас!.. ты бы стала актрисою... там любовь за кулисами... я бы взял тебя силою и увлёк на Парнас... 5:20 14.10.2015
|
Star Че... «Ведь мы – старые боги. Мы, как и греческие боги, видели рассвет мира». (Акутагава Рюноскэ «Усмешка богов») *** жизнь вдохну полной грудью, обретя в ней свободу... главное... оторваться и душою вздремнуть... сквозь холодные прутья, чередой мои годы... жизнь прошла без оваций и осела вся муть... прутья - это не сети, прутья - чёрные пики... главное... перебраться, не вонзились чтоб в грудь... если счастье не светит, с головы его выкинь... жизнь полна аберраций, может в уши надуть... уходили пророки, как уходят светила... под пальмирой* от Зевса был рождён Аполлон*... красота без порока в статуе застыла... если лучше всмотреться - не обрезанный Он... 6:33 12.10.2015 * Аполлон = сын Зевса, бог солнца, покровитель искусств; Принадлежности Аполлона = лира,серебряный лук, золотые стрелы. Символы = пальма, олива, лавр, железо, дельфин, лебедь, волк. * Пальмира = пол-мира облетел Аполлон, от Гипербореи; пальма первенства; первородство;
|
|
К лео... у нас есть теперь формула, меня аж передёрнуло... едут их благородия за своих поболеть... жигулёвского с раками нет, однако, в Монако... ну, а в наших угодиях, есть на что посмотреть... засмотрелся ей в спину, видно это судьбина... кто ты нежная фея?.. неужели одна?.. я пиджак с себя скинул и по-детски невинно, с ней знакомство затеял, предложил ей вина... а потом под лезгинку, вверх по козьим тропинкам, после к озеру Рица,* а затем в номера... опахала-ресницы... может сплю? ...может снится? Клеопатра, царица... ты играй... ты игра... 13:01 14.10.2015 * Рица = на-РИЦА-тельно, ЦАРИ;
|
|
|
Про порции... выпил кофе три порции... в идеальных пропорциях вижу тело спортивное на экране TV... с аккуратными сиськами увидал теннисистку я, и теперь непрерывно я думаю о любви.... а в сегодняшних новостях, изучил всю в подробностях... этим чудным мгновением до сих пор дорожу... сижу с чашкою кофию, развожу философию... взбаламутила гения - от любви весь дрожу... 10:20 15.10.2015
|
|
|
|
|
|
penyebab syaraf kejepit bahaya kanker nasofaring obat hidrosefalus pada bayi spirit flat
|
|
|
|
|
Пост... посвящаю тебе посты, не даю я тебе остыть... мы соскайпились шёпотом и духовно сошлись... твои красные бусики и ажурные трусики... я шепчу: «делись опытом», «опыт мой... накопись!» ночи звёздные, лунные и глаза твои умные... я тебя, как сосайтницу, угадаю, найду... я люблю твою задницу! без узды саврас, всадница... прибегу к тебе в пятницу и вспашу борозду... прибегу огородами, вникну в тайну природную... с магнетизмом Вольф Мессинга трону счастья врата... отношенья свободные, но есть камни подводные: утром муж-дэпээсник воротится с поста... 14:09 16.10.2015
|
|
|
Уния вер с ум... «Прежде чем открыть рот, ты уже всё сказал» (Жуан Зы) *** за маской слов сокрыта мысль, не ложь, ври больше!.. заблуждайся... «икс» превратится в слово «кысь», но ты сему не удивляйся... в «бреду» есть «дебри», в «пуще» - «щуп»... сгустятся краски, туман гуще... и если не совсем ты глуп, побудь любого глупца пуще... всё потаённым станет вмиг, покров из снега без проталин... и... может... ты увидишь их... увидишь их, элементарно... они как золотая пыль и им не до... непониманий... они всё превращают в быль... им дела нет до наших знаний... 6:09 17.10.2015
|
|
|
|
|
ШВЕЙ-ЦАРСКИЕ ЭЛЕМЕНТ АЛЬ ГЕБ + НУТ = УНИЯ Г-ЕБА и Н-ЕБА АЛГЕБРА = АЛь Г-ЕБ/БЕР/РЕБ РА = АЛь РЕБРА
|
|
АЛь Д-АЛь = ЛА-ДА/ЛОДИИ/ИДОЛ как поняли Пришельца те, про которых в Биб-лии даже сказано, что ОНИ НЕ ПОНЯЛИ... пример: "увидишь буду убей буду" кто мне даст объяснение этой фразы? ..жду ЗЫ/рь: как это поняли "др.евреи" мы уже знаем ( - дело кончилось распятием/проверкой... что-то похожее произошло с Гарри Гудини... если помните...
|
элементали всё правят на ходу...
|
|
|
|
ПРЕЖДЕ ЧЕМ АВРААМ БЫЛ, Я ЕСМЬ Свиделем и ЗНАМЕНИЕМ УНИИ ВЕР С УМОМ является само небо! если кто присмотрится то МАЛЫЙ КОВШ (созвездие) как бы выливает своё содержимое в НАБОЛЬШИЙ... или см. картинку в сети...
|
|
в ДАО это назвают ЛИТЬ ЧИСТУЮ ВОДУ В ЧИСТУЮ ВОДУ СПИ С ДАО!
|
Если бы евреи не распяли Иисуса, ему незачем было бывоскресать, а без чуда воскресения за спиной у него были бы лишь 39 фокусов - и только. Да и насчет славы Геростата вы ошибаетесь. Слава евреев в том, что нация этв выжилв ы христианской цивилизации внутри и, в конце концов, преуспели, подмяв с помощьб узаконивания ростовщичества под себя всю зристианскуб цивиоищацию.
|
(Ю. Нагибин).
|
И вoт cкaзaл Ибpaxим: "Гocпoди! Пoкaжи мнe, кaк Tы oживляeшь мepтвыx". Oн cкaзaл: "A paзвe ты нe увepoвaл?" Toт cкaзaл: "Дa! Ho чтoбы cepдцe мoe уcпoкoилocь". Cкaзaл Oн: "Boзьми жe чeтыpex птиц, coбepи иx к ceбe, пoтoм пoмecти нa кaждoй гope пo чacти иx, a пoтoм пoзoви иx: oни явятcя к тeбe cтpeмитeльнo, и знaй, чтo Aллax вeлик и мудp!" Te, кoтopыe pacxoдуют cвoи имущecтвa нa пути Aллaxa, пoдoбны зepну, кoтopoe выpacтилo ceмь кoлocьeв, в кaждoм кoлoce cтo зepeн. И Aллax удвaивaeт, кoму пoжeлaeт. Пoиcтинe, Aллax oбъeмлющ, знaющ! (Коран 2:260,261)
|
|
|
Он сказал, что НЕ РАЗДЕЛЯТЬ пришёл! УНИЯ ВЕР С УМ! Спи с ДАО!
|
|
Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас? (Лука 12:13,14)
|
И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро моё... (Лука 12:18)
|
|
Подобным образом в мире люди создают богов и почитают свои создания. Следовало бы богам почитать людей, как существует истина» Филипп, 84-85
|
(Псалтирь 81:6)
|
Я всю жизнь свою провел в мытье посуды И в сложении возвышенных стихов Мудрость жизненная вся моя отсюда Оттого и нрав мой тверд и несуров Вот течет вода – ее я постигаю За окном внизу – народ и власть Что не нравится – я просто отменяю А что нравится – оно вокруг и есть... Пригов Д.А.
|
Вымою посуду - Это я люблю Это успокаивает Злую кровь мою Если бы не этот Скромный жизненный путь - Быть бы мне убицей Или вовсе кем-нибудь Кем-нибудь с крылами С огненным мечем А так вымою посуду - И снова ничего Ich spüle das Geschirr Das tu ich so gern Beruhigt das doch so sehr Mein böses böses Blut Wenn es ihn nicht gäbe Diesen bescheidnen Lebensweg Müsste ich wohl ein Mörder sein Oder sogar wer weiß schon wer Irgendwer mit Flügeln Und einem Feuerschwert Doch spül ich das Geschirr Und wieder einfach so
|
Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, - да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий. Так поступили воины. (Иван 19:23,24)
|
|
внимательнее вгляывайтесь в лица... вы узнаете в них многих умерших... давно и недавно...
|
|
ирония Христа/КРЕСТА чувствуется везде... осла? - да сбудется Писание... ведите... осла так осла.
|
- "увидишь буду убей буду" кто мне даст объяснение этой фразы? - Убить азиата нетрудно : Убей егойного ИШАКА, - И его, убитого, - кто увезёт ? И он, живой пока, - будет Настырно сюсюкать свои перлы. Нет, пощадим ишака. Убьём презрением - его хозяина.
|
|
|
(Мат вей 16:19) «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». (Мат вей 18:18)
|
|
|
И вoт cкaзaл Ибpaxим: "Гocпoди! Пoкaжи мнe, кaк Tы oживляeшь мepтвыx". Oн cкaзaл: "A paзвe ты нe увepoвaл?" Toт cкaзaл: "Дa! Ho чтoбы cepдцe мoe уcпoкoилocь". Cкaзaл Oн: "Boзьми жe чeтыpex птиц, coбepи иx к ceбe, пoтoм пoмecти нa кaждoй гope пo чacти иx, a пoтoм пoзoви иx: oни явятcя к тeбe cтpeмитeльнo, и знaй, чтo Aллax вeлик и мудp!" Te, кoтopыe pacxoдуют cвoи имущecтвa нa пути Aллaxa, пoдoбны зepну, кoтopoe выpacтилo ceмь кoлocьeв, в кaждoм кoлoce cтo зepeн. И Aллax удвaивaeт, кoму пoжeлaeт. Пoиcтинe, Aллax oбъeмлющ, знaющ! (Коран 2:260,261)
|
ВСЕГДА БУДУ - программа такая, хоть уссысь.
|
потому, бездарь, что ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ не всегда БЫЛИ
|
потому, бездарь, что ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ не всегда БЫЛИ
|
ПРИБАВЯТ! И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро моё... (Лука 12:18)
|
|
|
А зачем завидовать известности? Чтобы уподорбиться Геростату? Вот Шаламов раз сказал: Три аршина в длину И аршин в ширину — Мера площади рая. А у Христа и у Ленина и того нет
|
что ответил Павл? скажет на тебе ключи от палаты № 6 или от клетки с горилами, они полюбят тебя...
|
Вы возражаете по-женски: чтобы возражать. Ваше "известный в своих кругах чел занял 6 млн тугриков у Хапугачёвой Брониславы и не отдал... а будь ты неизвестным? дала бы тебе 6 млн? - то то..." - не имет никакого отношения к Геростату и тому, как вы его поступок интерпретируете. Да и что мы знаем о Геростате, кроме дошедшего до нас короткого текста из греческой книги небылиц, написанной в римское время? Там вснего 14 строк. Весьма тенденциозных. А вдруг жрецы хравма ограбили его, ыдруг украли люимуб рабынб? Храм Артемиды стал знаменитым после того, как его сжег он. Может Гепростату заказали храм, чтобы спитсать на пожар ранее разворованное - и потому возникла мысль о его великоолепии?
|
это мои ответы "обкакавшимся искусствоведам" в числе 3 штуки: 1. Соломон Воложин 2. Лисинкер-Лили 3. Куплин Ъоливар Рп не выдержал такой разоблачающей экзекуции... ВМ также "обкакался" но уже на своём коньке модератора.
|
|
"др.евры" исповедуют свою "избранность", а русские (Русь = Свет), то есть СВЕТЛЫЕ/ПРОСВЕЩЁННЫЕ для них ГОИ. что такое ГОИ? а? "др.евры"?
|
"др.евры" исповедуют свою "избранность", а русские (Русь = Свет), то есть СВЕТЛЫЕ/ПРОСВЕЩЁННЫЕ для них ГОИ. что такое ГОИ? а? "др.евры"?
|
"др.евры" исповедуют свою "избранность", а русские (Русь = Свет), то есть СВЕТЛЫЕ/ПРОСВЕЩЁННЫЕ для них ГОИ. что такое ГОИ? а? "др.евры"?
|
ГОИ = ИГО которое не даёт им воровать, а в стране "избранных" украсть не у кого...
|
Он вроде сфинкса предо мной... Кот лапой мне Показывает дулю... Луну, наверное, Собаки съели...
|
|
|
что снова напугало ВМ? Он вроде сфинкса предо мной... смена головешек с др. времён?
|
|
|
|
всё идёт своим чередом, приходит и уходит.
|
|
|
|
|
|
САНСКРИТ = НАС СКРЫЛИ... А-ПОКРИФ-ФАЛЛОС = ХЕР = Х; ПИРДАТИ = ГАЗ/ПИР ДАТИ = ОГОНЬ; КУРАЖ = BING-BANG = К УРА Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж!.. ПРОМЕТЕЙ = ПРО МЕТАН; ШАХТА = ШАХ ТО... УГЛЕ/УЛЕЙ/РОД С ВОДОРОДОМ; ВЗРЫВ/BING-BANG; PIRAMIDOS = PIR-A MI DOS = ОГОНЬ МЫ ДОСТАЛИ = ПИРА-МИ-ДАли/МЫ ДАЛИ; ПИРОГ = ПИР-РОГ/ГОР = ГОРКА = ПИРАМИДКА;
|
...ecть тaкиe, кoтopыe CВOИМИ ЯЗЫКAМИ ИCКPИВЛЯЮТ ПИCAНИE, чтoбы вы coчли этo пиcaниeм, xoтя oнo и нe пиcaниe, и гoвopят: "Этo - oт Aллaxa", a этo - нe oт Aллaxa, и гoвopят oни нa Aллaxa лoжь, знaя этo. (Коран 3:73) СИНЬ = СЫН; СИНЬ ОР/СИНЬ ОРА; СИНАГОГА = ГОЛОС СЫНА; ГОГА И МАГОГА; МАГОГА = ГОЛОС МААТ/МАТЕРИ АЗ;
|
A technology glitch chi flat iron,chi hair delayed hundreds lancel of Southwest nike air max,air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france Airlines flights Sunday juicy couture outlet while the airline checked-in hollister clothing passengers manually at mcm handbags,mcm bags,mcm backpack,mcm outlet airports."We're experiencing north face intermittent technology issues on Southwest.com, lululemon outlet,lululemon,yoga pants,lulu lemon,lulu.com,lululemon.com the moncler Southwest Mobile ray ban sunglasses app, and in ghd,ghd hair,ghd hair straighteners,ghd straighteners reservations centers nike huarache and airports oakley sunglasses,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses across louis vuitton outlet stores,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton our birkin bag,hermes belt,hermes handbags,hermes birkin,hermes bags,birkin bags system today," the airline said lacoste pas cher in ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban a nike roshe run,roshe run,nike roshe,rosh run,roshe run pas cher,nike roshe france statement. converse shoes,converse,converse.com,converse sneakers,converse outlet The airline air force,nike air force,air force 1,air force one,nike air force 1,nike air force one,air force one nike asked that fliers arrive louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins at abercrombie and fitch,abercrombie and,abercrombie,abercrombie kids,abercrombie fitch,abercrombie.com least celine handbags,celine bag,celine bags two converse pas cher hours ugg,ugg australia,ugg italia prior to their scheduled rolex watches,rolex,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex departures to michael kors outlet store,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors help minimize delays.About coach outlet,coach factory,coach factory outlet,coach outlet store,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online 300 flights had been sac louis vuitton,louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france delayed jimmy choo,jimmy choo shoes,jimmy choo outlet,jimmy choo handbags as michael kors outlet of early Sunday louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton afternoon, michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors the nike free run Dallas-based oakley sunglasses airline p90x,p90x3,p90x workout,p90x workout schedule,p90x workout sheets,p90x 3,p90x2 said.In pandora jewelry Los Angeles, airport kate spade outlet,kate spade,katespade,kate spade handbags police ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren pas cher,polo ralph lauren pas cher,ralph lauren france tweeted a photo of long lines canada goose at hogan,hogan outlet,scarpe hogan,hogan sito ufficiale,hogan interactive the longchamp,longchamp handbags,longchamp outlet,longchamp bags,long champ Southwest desks moncler,moncler outlet,moncler sito ufficiale with jordan shoes,jordans,air jordan,jordan retro,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,air jordans,cheap jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,air jordan retro thewarning to "avoid delays doke & gabbana arrive louboutin early."One passenger, waiting coach outlet,coach factory outlet,coach outlet store,coach factory,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online in line just toms outlet before noon prada outlet,prada,prada handbags,prada sunglasses,prada shoes,prada bags outside supra shoes Nashville ferragamo shoes,ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet International michael kors outlet online Airport, wedding dresses,prom dresses,bridesmaid dresses,evening dresses,beach wedding dresses,cheap wedding dresses,homecoming dresses,prom dresses,wedding dresses tweeted polo ralph lauren that the Southwest north face jackets,north face,the north face,northface,north face outlet,north face jackets clearance,the north face outlet line giuseppe zanotti was "Crazy long — thomas sabo uk can't burberry outlet online,burberry outlet,burberry,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale even see hermes,sac hermes,hermes pas cher,sac hermes pas cher the abercrombie end! Hold burberry outlet online,burberry,burberry outlet,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale flights air max plz!"At nike shoes,nike outlet,nike factory,nike store,nike factory outlet,nike outlet store,cheap nike shoes,nike sneakers Denver International tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry Airport, Emily coach factory outlet,coach factory,coach factory outlet online,coach factory online Mitnick, michael kors,michael kors uk,michael kors handbags,michael kors bags said she rolex watches,replica watches,omega watches,rolex watches for sale,replica watches uk,fake rolex missed her ray ban sunglasses uk 10 canada goose outlet a.m. soccer jerseys,soccer jersey,usa soccer jersey,football jerseys flight bottega veneta,bottega,bottega veneta outlet to Detroit, even though asics,asics gel,asics running,asics running shoes,asics shoes,asics gel nimbus,asics gel kayano,asics gt she canada goose jackets parked roshe run,nike roshe,roshe runs,nike roshe run,nike roshes her tory burch outlet,tory burch,tory burch handbags,tory burch shoes,tory burch sale,toryburch,tory burch sandals,toryburch.com,tory burch flip flops car ralph lauren,ralph lauren uk,ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet around tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry 8 instyler ionic styler,instyler a.m. ray ban pas cher,ray ban,rayban,lunette ray ban pas cher She estimated nike free,free running,nike free run,nike free 5.0,free running 2,nike running shoes,nike free trainer,nike free trainer 5.0,free runs,free run 5.0 that michael kors handbags,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors about ugg pas cher 1,000 people were online at michael kors handbags the vans scarpe check-in uggs for a moncler outlet boarding pass."The clock beats by dre,dr dre,beats headphones,dre beats,beats by dr,beats by dr dre,beats audio,dr dre beats,dre headphones,beats by dre headphones,beats by dr. dre,cheap beats was moncler jackets ticking and canada goose outlet the new balance shoes,new balance,balance shoes,new balance outlet,new balance store,new balance store locator,new balance shoes for women,joe's new balance outlet,newbalance,newbalance.com,new balance walking shoes flight took vans shoes,vans outlet,vans store,star wars vans shoes,cheap vans,vans shoes outlet,white vans,black vans,red vans,vans star wars,vans sneakers,vans shoes outlet store,vans sale,cheap vans shoes off," Mitnick cheap oakley sunglasses told christian louboutin shoes,louboutin shoes,louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,red bottoms,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins the Associated Press.The nike air max Southwest check-in line at McCarren International longchamp,sac longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france Airport air max,nike air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 in Las louboutin,chaussure louboutin,louboutin pas cher,chaussures louboutin,chaussure louboutin pas cher,louboutin france Vegas timberland shoes wrapped around true religion the louis vuitton,louis vuitton canada,louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online building hollister and oakley down michael kors the burberry pas cher street, Ida new balance pas cher Perez moncler told NBC barbour News. moncler Perez said she air jordan,jordan pas cher,air jordan pas cher,nike air jordan,air jordan france waited in ugg australia,ugg slippers,uggs boots,uggs outlet,ugg boots,ugg,uggs,ugg boots clearance,uggs on sale line iphone 6 cases,iphone 6 case,iphone 5c cases,iphone 5s cases,iphone cases,iphone case,iphone 5 cases,iphone 4s cases,iphone 4 cases,ipad cases,ipad mini cases,ipad air cases,galaxy s5 cases,galaxy s4 cases,phone cases for over two hours before uggs outlet finally michael kors,sac michael kors,michael kors pas cher,sac michael kors pas cher,michael kors france making michael kors canada her flight.The hollister,abercrombie,abercrombie fitch,hollister france,hollister pas cher,abercrombie and fitch,hollister pas cher technical longchamp handbags,longchamp,longchamp outlet,longchamp bags,long champ glitch canada goose is louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins the louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton latest to disrupt the louis vuitton,louis vuitton outlet online,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton nation's airline service wedding dresses,wedding dress,dresses for wedding,bride dresses,dresses for weddings,wedding dresses uk,cheap wedding dresses,vintage wedding dresses,monsoon wedding dresses,lace wedding dresses,wedding dresses for older brides,wedding dresses 2014 in ugg boots,uggs,ugg,ugg boots uk,ugg uk recent polo ralph lauren outlet,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet online,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo months. American Airlines blamed a computer failure louis vuitton,louis vuitton bags,louis vuitton handbags,louis vuitton uk for nike trainers halting nike free,free run,nike free run,nike free pas cher,nike free run pas cher,nike free france flights oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses to nike roshe uk three insanity,insanity workout,insanity workout calendar,insanity calendar,insanity workout schedule major true religion hubs kate spade handbags,kate spade,kate spade outlet,katespade for for swarovski jewelry a louboutin,christian louboutin,louboutin shoes,louboutins,louboutin uk,christian louboutin uk,red bottom shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet two-hour nike blazer window on Sept. mont blanc 17. And nine valentino shoes,valentino,valentinos days karen millen dresses earlier United ray ban sunglasses outlet,ray ban sunglasses,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban Airlines' pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online website crashed louis vuitton,borse louis vuitton,louis vuitton sito ufficiale,louis vuitton outlet for mac cosmetics,m a c cosmetics,mac makeup,maccosmetics.com more than sac longchamp,longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france two uggs hours, true religion forcing chanel handbags,chanel bags,chanel sunglasses,chanel purses,chanel outlet passengers juicy couture to gucci outlet,gucci handbags,gucci belts,gucci shoes,gucci,gucci belt,gucci sunglasses,gucci bags,cheap gucci check-in via canada goose pas cher mobile hollister uk apps ugg,uggs,uggs canada or airport kiosks. A computer vans,vans pas cher,vans soldes glitch in tn pas cher,nike tn,nike tn pas cher,nike tn requin,tn requin,tn requin pas cher July grounded louis vuitton,sac louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france many uggs outlet United flights oakley pas cher,oakley,oakley soldes,lunette oakley pas cher,oakley france for nearly true religion two hours, north face,the north face,north face pas cher,north face soldes,north face france snarling nike air max,air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 the canada goose outlet airline's schedule vanessa bruno pas cher nationwide easton bats and lululemon,lululemon canada,lululemon outlet canada,lululemon outlet online creating air max long canada goose outlet lines at coach outlet store online,coach outlet store,coach outlet airports.Southwest, which reebok outlet,reebok,reebok skyscape,reebok shoes had 3,600 flights oakley sunglasses cheap,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses schedule Sunday, longchamp,longchamp bags,longchamp uk said mulberry,mulberry handbags,mulberry outlet,mulberry bags,mulberry uk it was working marc jacobs to fix its babyliss pro problem."While teams work michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors diligently coach purses,coach handbags,coach bags to swarovski uk enhance the timberland pas cher performance of our prada handbags,prada,prada sunglasses,prada shoes,prada outlet,prada bags technology, our airport-based converse employees louis vuitton handbags,vuitton handbags,louis vuitton bags,louis vuitton purses are working herve leger,herve leger dresses with montre pas cher customers links of london uk on ray ban their nike air max individual itineraries and we air max,nike air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france apologize for the michael kors outlet online sale,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors extra sac guess,guess pas cher,guess,guess collection,sac a main guess effort and abercrombie and fitch UK delayed arrival of passengers and moncler jackets their ugg,ugg australia,uggs,ugg pas cher,ugg soldes,bottes ugg,bottes ugg pas cher baggage," the airline statement nfl jerseys,jerseys,baseball jerseys,cheap jerseys,nba jerseys,hockey jerseys,basketball jerseys,jerseys from china,cheap nfl jerseys said.The airline warned passengers north face outlet,north face,the north face,northface,north face jackets,north face jackets clearance,the north face outlet flying longchamp outlet,longchamp,longchamp handbags,longchamp bags,long champ Monday to soccer shoes,nike mercurial arrive two hollister,hollister canada,abercrombie and fitch,abercrombie,abercrombie and,abercrombie kids,af hours early michael kors outlet,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors and print barbour,barbour jackets,leather jackets,barbour sale,barbour outlet,barbour uk,barbour coats,barbour clothing boarding gucci passes before coming pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online to pandora charms,pandora uk,pandora bracelet,pandora rings,pandora,pandora sale,pandora bracelets,pandora jewellery,pandora ring,pandora charm,pandora earrings,pandora jewelry,pandora necklace,pandora charms uk the moncler airport. polo ralph lauren outlet online,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo
|
Ж = слияние/налоЖЖЖени хромосом = X Y I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Убогая скиф_овечка, что, - тяжко стало Изображать из себя ФИЛОСОФ_а ? Ну, потерпи немножко, Скоро за тобой придут. Они тебя приласкают так, Что мало не покажется. Уси-пуси. ---- -------
|
об одежде Моей = ОБРАЗ/ИПОСТАСЬ; «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и РАЗДЕЛИЛИ НА ЧЕТЫРЕ ЧАСТИ, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, - да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий. Так поступили воины». (Иван 19:23,24)
|
|
НЕ РАЗДЕЛЯТЬ пришёл! УНИЯ ВЕР С УМ! Свидетелем и ЗНАМЕНИЕМ УНИИ ВЕР С УМОМ является само небо! ...в ДАО это назвают ЛИТЬ ЧИСТУЮ ВОДУ В ЧИСТУЮ ВОДУ. ...если кто присмотрится то МАЛЫЙ КОВШ (созвездие) как бы выливает своё содержимое в НАБОЛЬШИЙ... И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро моё... (Лука 12:18)
|
|
И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро моё... (Лука 12:18)
|
|
|
|
|
РИЗА = РИЗАТЬ/РЕЗАТЬ РИ ЗА = ЗАРИ/ЗАРЮ
|
|
СЫПОНИ РА НА КУЧКИ/ПИРАМИДАЛЬНО УРАРТУ = УРА РТУ! ВЕРУ РАЗДЕЛИЛИ НА ЧЕТЫРЕ ЧАСТИ:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТИМУДЖИН = ТЫ МУЖЧИНА! первое имя Чин-Гиз-Хана
|
|
|
|
|
|
|
ТИМУДЖИН = ТЫ МУЖЧИНА! первое имя Чин-Гиз-Хана; МУЖ ЧИНА/СИНА/КИТАЙ; ОДЕР (ОДРЫ) = ОРДЫ/ ОР ДА = ОДА (мама по мон-гольски); ODER (нем.) = ИЛЬ; ВСЕЛЕНСКИЙ = КИ ФАЛЛИЧЕСКИЙ; АЛь = БОГ;
|
ПУСТЫННИК = ПУСТ = П УСТ = (латиница) PUS T = РУС/СУР ТАУ;
|
|
|
|
|
|
(Притчи 26:3-8) ПРИТЧИ = ПРИЧТИ;
|
СВЕТ/ВЕСТ = СВЕТ от СВЕТА/СЛОВО от СЛОВА
|
РИЗА = ЗАРИ РОЗА ВЕТРОВ = РОЗА/ЗАРО = ЗОРИ = З ОРИ = СС ОРИ = СЛОВО ОТ СЛОВА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Я сказал: вы - боги, и сыны Всевышнего - все вы»; (Псалтирь 81:6)
|
|
СОРТИРОВКА = ОТБОР = РОБОТ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ход мысли Иоанна... н..аброс..ки... 1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 2 Оно было в начале у Бога. 3 Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 4 В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 6 Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. 7 Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. 8 Он не был свет, но [был послан], чтобы свидетельствовать о Свете. 9 Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. 10 В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. (Иоанн 1:1-10) *** "В Нем была жизнь" = НЕМ/МОЛЧА-чалма/ВНИМАЛ = В НЁМ АЛ(ла)Х; В НАЧАЛЕ = Веди НАЧ-ночь/тьма/мать=ода/ЧАН АЛЕ/ела/рот/тор; ЧАН АЛЕ = ГОЛОВА БОГА; РОТ = КУСЧИ/КУСАТЬ/ЕЛА; Слово было у Бога = УБОГО = С К УДНО/ОДНО; С К УДНО = Х УД ОН/Нут; БОГ/БОХ-хоб-от/БОК-рана/РАНО-нора/заря/БОМ-взрыв мозга/ШИЗНЬ/ЖИЗНЬ/ssИссНь = Ж ИЗ Ничего; БОГ = Боги Онъ Глаголи = СЛОВО = Слово Люди Онъ Веди; "чрез Него начало быть" = ЧРЕС-СЛА/ч-и-слам/НЕГО/НЕГА/ОГЕН = ОГОНЬ/ГЕН ОН/ГЕНОМ/РОЖДЕСТВО; РОЖДЕСТВО = РОЖ/РОГ/ГОР/ЖОР/РОТ/ТОР + ДЕСТВО = ДЕТСТВО/ДИТЯ/Data IT R = Д-обро-С/ОБРОСЛО-во; "и тьма не объяла его" = НЕ ОБЪЕЛА/не умалила/ВЫРОС/ВИРУС = РОСт/СУР-жик/ки/жиССнь; Р-УСт/Реци УСТ/ИЗ УСТ/Исс ус Творил = Р-ОДа/ОРДА(мать, мон-гол/В-ОДА); молекула = МОЛ-ЛИК-К-УЛА/СОТА; мёд-расе; БОГ = Б-оги ОГ-ни/НОГИ-гони/БЕГ/Г-еб/ход/дох = ВДОХ; БЫТЬ/БЫТ/БИТ/БИТЬ-т-ибя/Боги IT/ГЕНЕРАЦИЯ; ЖОР = РОЖд = Ж ОР/слово = РОЖА/рожать/ЛИК/клик/крик; ВХОД/ВЫХОД = РОЖА/ЖОР + ЖОПА/ПОЖЖА(позже)/жупел-сера-смола-грех/ж-УПАЛ/ОПАл; Ж = слияние душ (К+К) и хромосом XY=I; ЖИЗНЬ = Ж ИЗвилины Наши = ИЗЛУК/КУЛАК/УЗЕЛОК/УЗЫ; СВЕТ = ВЕСТь/СОВЕСТЬ; ОГОНЬ = ИСК РА = РАИС КА = Х(ер) РА(м) = МЕЧ-ЕТЬ/ТЕЧЕМ = те-куче-честь-есть; Х-ОДа! ОР = ОРГАН/РОГ/НОРА/ГОРА/ОРГАЗМ/ОРГАНИЗМ/РОДА/РОЖА/ОГРАНКА/ОГРАНИЧЕНИЕ; 4:54 26.10.2015
|
|
|
|
|
Вот смотрите, Вы засеяли пространство ДК РП от 330636// до 330665// своими выступлениями. Ну, нет здесь модератора, но у Вас-то совесть есть ? По крайней мере раньше-то была. Или Вы уже выкупили у ВМ-а этот сайт ? Вы же не один здесь. Ограничьте количество своих постов хотя бы десятью в сутки. А не тридцать, сорок, ...
|
--- ---- ----
|
|
1 голова, 32 зуба, 1 рот и тп
|
|
|
|
СОВАЛОСЬ = СО ФАЛЛОС/В АЛЛО ОСТЬ HONEY = МИЛАЯ/МЕДОЧЕК = КО-ХАННЯ = Ко ХАНУ/К НАХУО
|
СОВАЛОСЬ = СО ФАЛЛОС/В АЛЛО ОСТЬ HONEY = МИЛАЯ/МЕДОЧЕК = КО-ХАННЯ = Ко ХАНУ/К НАХУО
|
КОЛ-ЛОДА/ЛОДИЯ/ИДОЛ/ЛАДА МА С ТИТ ЧЕРВЬ = АЛЬ/ЗАРЯ/ЗРЯ/РЯССА/РАСА/РОСА/РОЗАКРАСНО/КРАСА/СРЕДЦЕ ПИКИ = КОПЬЁ/КОЛ КРЕСТ = без комментариев БУБНА = ШАМАН/НАМАЗ/НАМАШ/ЖРЕЦ
|
|
Все по-русски говорят ЛОГИКА = РЕБ РО/БЕР-ЛОГА/ЛОГА/ГАЛО = СИЯНИЕ РА РА СИЯНИЕ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КЛАР (нем.)= ЯСНО/С НОС/ЯН ОС/ИВАН СОН/ЗОН/Я СНО/С НОВЫМ Примеры таких выражений для Даши: «Обручаю нас» («Объявляю нас мужем и женой») декларация = кед/КЕТ РА ЦЕ Я = человек солнца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПА АЛЬ МЫ РА ТРИ УМ Ф-АЛЬНАЯ АР-КА ШУЗЫ = с УЗЫ/откуда ноги растут САЛАДИТДИН = С АЛА ЕДИН
|
|
|
|
|
Пе.. трог.. ра... грохотнул в голове бараба... помутилось, влюбился - судьба! но живёт далеко, в Петербу... потому-то другую обняв, провожаю её до подъе... она любит и так, без досье... ну, а ту то люблю, а то не... помутилось, влюбился во сне... на заборе мелком сплюсовал, но всё так же в другую.. шёл дверь... ну а чё? ..далеко Петрогра... жизнь, любовь и судьба - всё игра... 9:26 06.11.2015
|
А.. фор.. из.. м... там час... time, space... спас, глас, чан, спесь... эфир, четыре... рифма, норма... речёт на лире мыслеформа... начало, черви, бубны, крести... сердечки, server, нервы, вести... zwei, drive, эфир... бараш-смешарик... моча, сортир, тепло и barrel... нахал, ого! ещё на honey!.. ханум, арго... ко хан, кохання... софал so в all, перст, влага, ж..алость... яйцо, кора..ль.. пас.. хальный фаллос... 14:24 06.11.2015
|
to mutual satisfaction... любить тебя не тяжело - тяжёл любовный вздох... но чувство это чтоб жило настаивает бог... любить тебя не тяжело - труднее не любить... и это чувство чтоб росло глаза надо закрыть... и говорить только с тобой, и превращаться в слух... и пеной закипит прибой в одной волне из двух... как радужные пузырьки блестят твои глаза... тону в любовной лирике, не плачь, плакать нельзя... в любви нетрудно утопать, настаивает бог... в шестое чувство, а те пять уходят из-под ног... 4:45 07.11.2015
|
|
|
|
|
РУМЫНИЯ = РУН УНИЯ/РУКА(мын) РУса/узы ВЕНГРИЯ = ВЕН ИГРА ЛИПОВАНЕ = ПОЛЕВАНИЕ/ ПОЛЕ ВАНИ
|
|
|
|
|
|
ХАНОЙ = ХАН НОЙ
|
|
|
|
|
|
нюхай, пора в баню?
|
САНАЦИЯ = САТАНА
|
|
|
путника сперва в БАНЬКУ ПАРИТЬСЯ по-русски направляли
|
|
ЧРЕСЛ = РЕЧ СЛ
|
ВРЁТ ИЩЕ
|
|
(Бытие 49:10)
|
ВЕР РЁВ КИ
|
Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше; отец мой наказывал вас бичами, а я [буду бить вас] скорпионами. С КОР ПИОНАМИ/ПИО НАМИ
|
(Иов 41:5)
|
(Иса и Я 11:5)
|
(Иса и Я 11:7)
|
(Иеремия 30:6) произойдет из чресл твоих... ЧРЕСЛ = РЕЧ СЛ
|
|
(Наум 2:1)
|
(Наум 2:1)
|
(1-е Петра 1:13)
|
|
|
Спросите и рассудите: рождает ли мужчина? (Иеремия 30:6) произойдет из чресл твоих... ЧРЕСЛА = РЕЧ СЛ А И корова будет пастись с медведицею... (Иса и Я 11:7)
|
...пocлaнник oт Aллaxa ...ЧИТAEТ OЧИЩEННЫE CВИТКИ, В КOТOPЫX ПИCAНИЯ ПPЯМЫE. (Коран 28:189)
|
|
(Коран, Корова 2:64) СОЛНЦЕ = РА = СВЕТ/ЖЁЛТЫЙ
|
|
|
вчера смотрел интервью с одной "современной" певицей, не назову её... да и не в ней дело... так вот она, давая интервью что-то там говорила, а затем произнесла: "мне кажется, что слово «волноваться» (это когда её спросила журналистка о том, что волнуется она или нет)" произошло от слова «волна»! ...а далее растеклась мыслью, говоря "современным языком"... думаю, что для интервьюера это тоже стало открытием, раз уж пролезло в СМИ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АПОЛОГ = ГОЛ ПО А
|
|
|
halloween wishes,halloween quotes,Happy halloween, happy halloween wishes,happy halloween ideas,happy halloween decorations,happy halloween costumes,Pics, Fotos, Photos, Facebook merry christmas wishes,,, ,,,,Pics, Fotos, Photos, Facebook merry christmas quotes Happy christmas happy christmas wishes happy christmas ideas happy christmas decorations happy christmas costumes merry christmas wishes
|
halloween wishes,halloween quotes,Happy halloween, happy halloween wishes,happy halloween ideas,happy halloween decorations,happy halloween costumes,Pics, Fotos, Photos, Facebook merry christmas wishes,,, ,,,,Pics, Fotos, Photos, Facebook merry christmas quotes Happy christmas happy christmas wishes happy christmas ideas happy christmas decorations happy christmas costumes merry christmas wishes
|
|
|
|
|
|
Абсолют! абсолю́ русским матом речь, дам салют небесам словесный! обоюдо есмь острый меч - вербохлёстко реву, нелестно! дрогнет вражеский полк драгу́н, приседая к седой земле... предок спящий, и скиф, и хун, засверкают в небесной мгле! ну а если надменный враг вдруг продолжит наглеть вслепую - по другому сниму напря́г, хай пощупает мышцу тугую! не поможет кулачный бой, враг продолжит переть наобу́м - помашу́ и ногою младо́й, набъю пятку об эдакий ум... и тогда, потеряв ориентир, омочившись в траве сырой лазая, враг отступит в ближайший сортир, поглу..миться над унитазами... 11:02 10.11.2015
|
ORIENTIS = ОР СИНТЕЗ = СЛИЯНИЕ ЯЗЫКОВ/смешарики/СМЕШАЛ ЯЗЫКИ
|
|
(Псалтырь 105:35,36)
|
|
|
|
SYNTHESIS = СИНТЕЗ = СЫН ТЕО = СИНЬ ЗЕ/е СС СИС
|
|
|
|
а то что нравится вокруг оно и есть, как сказал поэт
|
а рельность - это конгломерат и счастья и горя
|
пусто только несотворённое
|
|
|
|
но это не первенец, судя по названию, скромнее быть бы надо
|
|
|
|
|
|
|
Иллюминатор... любовь моя как твёрдый луч, но до тебя не добивает... не виден всем, но луч живуч, во мгле и дымке оживая... и, как сокровище, тая́, тебя сокрыли тем же средством... тебя сокрыли, ну а я обосновался по соседству... как вор картину Пикассо́ тебя я вырежу из рамы... что жизнь моя? - чудной шансон, синематограф, мелодрама... сатира, добрый Колизе́й путь утверждает больши́м пальцем... эфир любимой, не глазей как отсекут главу страдальцу... 18:10 10.11.2015
|
|
LISBON = НОВ СИЛА КОСТЁР = К ОСТЁР/К АЗ нь = СКАЗ = ОР Х = ХРИСТОВ ОР/волнение = ПО ТРЯСЕНИЕ ЗЕМЛИ РОХ = ОР Х = ОРГИЯ = ГРОХ = ГОРОХ HORROR = ХОР РОР/ПОП = РОХ = РА = КЛИРИК любовь зла, полюбишь и козла = КО ЗЛА = ЯЙЦО ЗЛА/АЛ З/СС evil = live/life = ЯВИЛ/ДИА ЯВИЛ/ДО МИНИ/ДО МЕНЯ = ДОМИНИРУЕТ ЧТО? ЛЮБОВЬ = ЛЮБ ОВЬ = ОВЬ/ОВАЛ-яйцо/НОВЬ-вонь/сера = СЕРОЕ В-ВО ЛЮБОВЬ = ЛЮБ ОВЬ = любое яйцо = любая живность СС/З = Слово от Слова, Свет от Света ни в зуб ногой, ни в жопу пальцем = ни бум-бум ЗУБ = БУЗА от зубов отстакивает = ЗУБРИЛА = БУЗА РЫЛА
|
|
|
|
потому-то у православных принято красить яйца
|
|
|
|
кетгут = ТУГ (затянуть шов/нить) и ТЕК/(рассосётся шов) в КЕТ/оперируемом человеке, всё будет ГУТ; кетмень = КЕМЕНЬ Т = КАМЕНЬ и Т(как символ кирки/долбилки/мотыги); кетчуп/KETCHUP = из китайского KOE/рыба и TSIAP/соус; а теперь по-русски: КОЕ/ЁК и TSIAP/ПАИСТ = поесть ёк/нет, одна подлива; или КЕТЧУП = ТЕКУЧ(ая) П(одлива);
|
|
кел ей ник/проник келейно = кел ей он кель нер/нерв Кылына
|
|
|
«Я сказал: вы - боги, и сыны Всевышнего - все вы»; (Псалтирь 81:6)
|
|
|
|
|
|
против СССР (союз разных наций) в ВОВ выступили румыны, болгары, немцы и тд. КТО? кто же? если не вы? вы сами и есть... так не кляните же себя, дурни. СЛОВО - это сила, а война - это нажива для одних и смерть для других...
|
фашизм - это объединение, хватит клеймить слова означающие союз/унии вер с ум
|
С ВАС = С В АЗ
|
(Деяния 17:26)
|
|
|
|
...и клясть не кляни его, ни благословлять не благословляй его...
|
|
тетива тоже из кишки/нить/лук/кул = круто
|
тёти с тити фак-уль-тет уни-вер-си-тет вен-дети ди-спари-тет бони-тет = ибон квар-тет = рак-в-тет Г оскоми тет ...и тп
|
|
|
число это человеческое 666 = 9 9 меся це еb Пятница + Тринадцатое = 5 + 13 = 1 + 8 = 9 угомонитииссссь............... как ни крути: 999 = 9 + 9 + 9 = 2 + 7 = 9
|
|
|
|
|
Я люблю тебя и всё! про любовь есть много песен, в них поют про то, про сё... ну а я не Элвис Пресли, я люблю тебя и всё! мне чужда рутины плесень, не такой уж я осёл, я на раз могу всё взвесить - я люблю тебя и всё! я люблю тебя хоть тресни, не пугай, что муж боксёр! мне так даже интересней - я люблю тебя и всё! посылаю нежно пассы, погружаю тебя в сон... прошепчи в бездонном трансе: я люблю тебя и всё! я люблю тебя всё чище, я в любви - гипнотизёр... я не тот, кто ключик ищет - я люблю тебя и всё! 6:56 14.11.2015 sovmestno s Elvis Presley
|
|
Смирно ff... я стою по стойке смирно, элегантен будто трость... я тащусь от водки Smírnoff, я пришло... нежданный гость... генеральские погоны съехали за три версты... угоню тебя... в угоне ты забудешь со мной стыд! ты моя, пусть ненадолго, папа мчится в гарнизон... в проблесковой новой «Волге»... ци#769;гель, медлить не резон... я пришёл тебе дать волю, ты мне эти штучки брось... выпей смирно ff! вольно, вольно... сиськи вместе, ноги врозь! 10:55 14.11.2015
|
|
леги/лягайте трохи цыпа
|
" ... Пишут — как будто Воробей (скиф-воробей) на месте потолокся, наследил лапками — и готово. Где уж тут до идей, где уж тут до миросозерцания, где уж тут до философии, до вникания в смысл жизни и ее явлений, где уж тут до исследования души человеческой! Решительно некогда. Поскорее и побольше, «за вкус не ручаемся, а горячо будет ... " ---------- ------------ -----------
|
" ... Пишут — как будто Воробей (скиф-воробей) на месте потолокся, наследил лапками — и готово. Где уж тут до идей, где уж тут до миросозерцания, где уж тут до философии, до вникания в смысл жизни и ее явлений, где уж тут до исследования души человеческой! Решительно некогда. Поскорее и побольше, «за вкус не ручаемся, а горячо будет ... " ---------- ------------ -----------
|
|
У, годничек... что такое наша баба? да рожай хуть кажный год! да, сегодни бабы слабы - не разгонится в приплод... потому Николы угол - голый угол, буквой «Укъ»... голый кол - оно не убыль, а наука из наук! голый кол краеугольный, ты его... тудыт, в расклин... подержи кол в тёплом холе - ни гроша, да вдруг алтын! вот такая вот наука: сунешь в «Укъ» вернёт «Оук»... дитя мамке, бабке внука... бабка? слыш? ..агучит внук... 15:04 14.11.2015
|
Ходячие зонты-эфемериды... лёгкий дождик, осеннее утро... небо хмурое, ходят зонты... вот среди дорогих бредёт утлый, рёбра-спицы, не зонт, а понты... ощетинились колкие спицы, утлый зонт, сердца вырванный клок... под зонтами холодные лица, над зонтами штырёк-хохолок... хохолок-колпачок старый, новый, как сосок на зонтовой груди... я бы сделал его проблесковым, и с сиреной: спешишь - погуди! смотрят в землю холодные лица, отражает их взгляд тротуар... хохолок-колпачок веселится... а на кухне кипит самовар... 8:14 15.11.2015
|
Псимволы... я люблю предаваться неге на воде, на песке, на снеге... принимаю любовь как пищу в холода, по весне, в жарищу... обожаю прижать девчонку без трусов, без штанов, юбчонки... лучше чтобы была к тому же без бойфренда, брата и мужа... ничего, если будет с подругой, симпатичной, с грудью упругой... хорошо, если очень богата, чтоб имела свои пенаты... и ещё... в интересах нацих, соблюдала чтоб субординацию... чтоб я был для неё тотемом, чтоб молилась, меня хотела... а когда уж ей занеможится, чтоб нашла молодую помощницу... 8:53 16.11.2015
|
|
|
|
Настенные газовые котлы Металлопластиковые трубы Стальные радиаторы Алюминиевые радиаторы Шаровые краны Отопительное оборудование Биметаллические радиаторы одежда оптом одежда оптом россия интернет-магазин женской одежды купить одежду оптом одежда оптом цена женская одежда опт и розница россия турецкая одежда одежда оптом от производителя женская одежда оптом недорого пошив женской одежды заказать одежду оптом женская одежда оптом 7 км Недвижимость Италия Недвижимость Швейцария Купить квартиру в Италии Недвижимость Англия Недвижимость Америка Купить недвижимость Европа Продажа виллы в Европе Создание сайта Заказать SEO Заказать сайт Киев Интернет-магазин на мадженто Заказать адаптивный дизайн Заказать продвижение сайта
|
|
Happy Diwali awesome and best Wishes 2016 http://www.happydiwaliwishes-2016.com/2016/09/top-best-happy-diwali-messages-2016-in.html (*Top Best*) Happy Diwali 2016 Messages http://www.happydiwaliwishes-2016.com/2016/09/happy-diwali-2016-wallpapers.html (*Best*) Happy Diwali 2016 Wallpapers {Highy Quality} http://www.happydiwaliwishes-2016.com/2016/09/happy-diwali-2016-wishes.html (*Awesome*) Happy Diwali 2016 Best Wishes http://www.happydiwaliwishes-2016.com/2016/09/happy-diwali-images.html Happy diwali best images http://www.happydiwaliwishes-2016.com/2016/09/awesomehappy-diwali-rangoli-designs.html Happy diwali awesome Rangoli Designs http://www.happydiwaliwishes-2016.com/2016/09/happy-diwali-quotes-here-is-big.html Happy diwali Top best quotes http://www.happydiwaliwishes-2016.com/2016/09/happy-diwali-2016-sms.html Happy diwali best sms http://www.happydiwaliwishes-2016.com/2016/09/amazing-happy-diwali-2016-whatsapp.html Happy diwali amazing whatsapp status http://www.happydiwaliwishes-2016.com/2016/09/happy-diwali-wishes-video-clips.html Happy diwali amazing Video Clips http://www.happydiwaliwishes-2016.com/2016/09/pooja-laxmi-mata-aarti-lyrics-and-video.html (*Pooja*) Laxmi Mata Aarti Lyrics And Video (*Awesome*) http://www.happydiwaliwishes-2016.com/2016/09/god-happy-diwali-2016-laxmi-pooja.html (*Goddess*) Happy Diwali 2016 Laxmi Pooja Images (*Latest*)
|
http://www.happydiwaliimages2016hd.com/ Thanks
|
http://www.happydiwaliimages2016hd.com/ Thanks
|
|
thanksgiving dinner
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|