Журнальный зал "Русского переплета"
| 2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | |||||
| 2004 | |||||
| 2002 | |||||
| 2007 | |||||
| 2003 | |||||
| 2008 | |||||
| 2006 | |||||
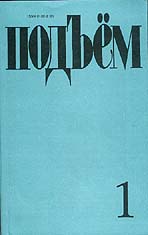 Закрывается то один провинциальный
журнал, то другой - исчезают с карты России островки
духовности и образования, наконец, исторической памяти
народа. "Подъем" является именно одним из таких островков,
к счастью, уцелевших, который собирает мыслящих людей,
людей неравнодушных, болеющих за русский язык и вековые
традиции нашей страны.
Закрывается то один провинциальный
журнал, то другой - исчезают с карты России островки
духовности и образования, наконец, исторической памяти
народа. "Подъем" является именно одним из таких островков,
к счастью, уцелевших, который собирает мыслящих людей,
людей неравнодушных, болеющих за русский язык и вековые
традиции нашей страны.
ПРОЗА
Юрий Гончаров
⌠ЛИШЬ СЛОВУ ЖИЗНЬ ДАНА...■
Воспоминания
I
Когда в городе выпадал снег, дворники широкими деревянными лопатами сгребали его на края тротуаров. К нему прибавлялся тот, что покрывал проезжую часть, - и во всю длину улиц на одной стороне и на другой вырастали снежные валы в рост человека. От прохожих за ними виднелись только головы, а детей, школьников, бегущих на уроки, вообще было не увидать. Дня два-три городские уборщики выжидали: не продлится ли снегопад, и если он случался - на улицах появлялись возчики с розвальнями, рыжими и саврасыми лошадками в сосульках на озелененных сенной жвачкой губах, теплым паром дыхания из ноздрей. Такими же широкими лопатами они резали снег, лежавший валами, на пудовые кубики, накладывали их на сани высокими пирамидами - и увозили, чтобы свалить на каком-нибудь пустыре. С Комиссаржевской, на которой стоял наш кирпичный четырехэтажный дом, снег свозили в расположенный на ней городской сад. В царские времена в нем происходили семейные чаепития вокруг сверкавших начищенной медью самоваров, с распаренными кренделями, бубликами; по вечерам в фанерной раковине играла музыка - духовой оркестр расквартированного в городе 25-го Смоленского пехотного полка; по дорожкам медленно, с достоинством гуляли празднично наряженные горожане. Гуляющие не просто дышали воздухом, наслаждались звуками оркестра: во время этих вечерних прогулок завязывались нужные знакомства, происходило выглядывание женихов и невест. Советская власть, переворачивая все на свой лад, нарекала городские площади, парки, улицы и прочие места именами революционных вождей, прогрессивных, с точки зрения новых властителей, деятелей. В ходе этого преобразовательного процесса Тулиновская улица, носившая свое название лет сто, если не больше, получила имя артистки Комиссаржевской, не имевшей к городу совсем никакого отношения, но считавшейся демократкой, только лишь однажды посетившей гордо во время своих гастролей по российским провинциям, а затем обругавшей его в одном из своих частных писем. Зато, что публика не проявила большого интереса к ее спектаклям, и сборы получились малые. А сад на этой улице назвали именем главного обличителя капиталистического мира Карла Маркса. Просторечный, не знающий почтения и страха уличный язык тут же переделал название сада по-своему: ⌠Карлуша■. ⌠Куда идешь вечером? - Да в ⌠Карлушу■... - Ладно, в ⌠Карлуше■ встретимся■. Летних чаепитий и прогулочных гуляний по дорожкам в нем уже не устраивали, их заменили лекции о международном положении и успехах народного хозяйства; оркестровая раковина исчезла, на ее месте появилась танцевальная площадка из плохо обструганных досок, на столбе над ней загремел так называемый ⌠динамик■: ⌠Эх, Андрюша, нам ли быть в печали, бери гармонь, играй на все лады...■ Сбившись на платформе в плотную толпу, с сумерек до полуночного часа шесть вечеров в неделю на ней кружилась, шаркала ногами танцующая молодежь. На иной манер, но здесь тоже происходило подыскивание себе женихов и невест.
А зимой в саду было пусто, мертво, только чернели стволы голых деревьев.
Въехав с очередной снежной пирамидой внутрь сада, возчики ставили лошадь в оглоблях под крутым углом к саням, и, гикнув на нее, резко рванув с места сани, враз вываливали весь доставленный снег. Под деревьями росли высоченные кучи, одна возле другой. Когда снежные кучи заполняли всю территорию - снеговозы начинали ездить поверху, уминая, утрамбовывая первый слой и насыпая второй. В снежные зимы получался и третий, и четвертый. Снежная толща поднималась до самого верха окружающей сад решетки из деревянных брусьев, в половину древесных стволов. Казалось, никакое весеннее тепло не растопит такую массу снега, даже в июле сугробы все еще будут выситься в саду имени Карал Маркса.
Но вот с юга задували первые весенние ветры, снег повсюду быстро оседал, темнел, делался крупитчатым, ноздреватым; появлялись ручейки; солнце ослепительно било из широких луж. А еще через пару-тройку дней, через неделю - начиналось бурное, уже неостановимое таяние, клекот и журчание сбегающих с городского нагорья и разлившуюся, переполненную реку мутных потоков - и вместе со всей массой снежного покрова незаметно истаивали, исчезали и снежные Монбланы за решеткой сада. Как будто там и не было этих высоченных гор, с которыми, казалось, не справится даже африканское солнце...
2
Приближающаяся весна всегда давала о себе знать одинаково: совсем особым, не таким, как в зимнюю пору, новым, живым, несущим в себе весть о скором пробуждении земли, листвы, трав и цветов шумом ветра в вершинах старых тополей, стоявших вдоль всей Комиссаржевской улицы, до самого ее конца, до глухой кирпичной стены Чугуновского кладбища с такими же раскидистыми гигантами-тополями.
Мне до сих пор жаль эти тополя. Их посадили полтораста лет назад, когда нагорная часть горда была еще пуста, сливалась с окружающей степью, только начинала застраиваться. Тополя эти были свидетелями революции, многолюдных шествий с красными флагами и оркестрами, жарких речей уличных ораторов. Под ними, высекая из булыжника мостовой подковами искры, скакали казаки генерала Мамонтова, захватившие город в своем стремлении к Москве, а потом их победители, разбившие белое войско наголову в кровавых сабельных сечах - конармейцы Буденного. Под листвой этих тополей, от густоты почти черной в тенях, в июньские, июльские дни сорок первого года шил на вокзал, на войну, колонны мобилизованных, одетых во все свежее, еще не обмытое, прямо со склада. Тополя эти пережили нашествие фашистских оккупантов, беспощадные бомбежки, жестокие бои, когда горд на целых семь месяцев был разрезан надвое линией фронта и в нем полыхали непрерывные пожары, превратившие дома и улицы в горы зола и пепла. Когда горд наконец-таки был освобожден, старые деревья встречали возвращающихся на пепелище горожан шелестом своей листвы, и каждый, кто их видел - искалеченные, наполовину обугленные, с пулевыми отметинами на коре, но все-таки живые, зеленеющие посреди кирпичного крошева, полностью выгоревших внутри зданий, каждый, кто слышал их приветственный шелест, как бы говорящий, что победа все-таки за нами, жизнь продолжается, обязательно превозможет, одолеет весь этот страшный раздор - не мог сдержать слез...
Тополя извели, уничтожили спустя много лет после войны уже при новых поколениях горожан - со своими понятиями, представлениями о ценностях, о том, как должен выглядеть город, в чем состоит красота улиц, площадей, зданий.
В пору цветения с тополей летел обильный пух, попадал в глаза, ноздри. Тополя цвели и раньше, каждое лето, и раньше с них летел пух, но почему-то его терпели, мирились с его кратковременным, недельным появлением. Более того, старые жители даже гордились, что улицы города так зелены, тенисты, что на них стоят такие могучие, раскидистые тополя. Они были славой города, как бы его эмблемой, подобно тем каштанам, которыми знаменит Киев, платанам и акациям, что украшают Одессу.
Но у нового поколения горожан летящая с тополей вата вызывала недовольное ворчание. В городские органы, в газеты лились потоки жалоб - устных и письменных. Доводы жалобщики, настроенные против тополей, применяли самые различные: и пожарная опасность от пуха, и воспалительные явления в дыхательных путях у детей, и засорение пищи в общественных столовых и кафе. Начальству горда пух тоже попадал в глаза и в ноздри. У начальства тоже были дети, в обеденные тарелки им тоже иногда садилась прилетевшая с соседнего тополя пушинка. Начальство - всесильно, полновластно в городе надо всем, что есть, наличествует, происходит. В стране тогда в полном ходу был лозунг: не ждать милостей от природы, переделывать ее по своему усмотрению. Распахивалась целина, миллионы гектаров в Казахстане, Сибири. Хотя не стоило их распахивать, умные люди предупреждали, что ничего хорошего их этого не получится; так и вышло: бешеные равнинные ветры на другой же год унесли с собой на край света, в чужеземную даль, весь разворошенный почвенный слой, оставив там, где он лежал, только бесплодную глину. Поворачивались русла рек, создавались рукотворные моря, тут же превращавшиеся в зловонные болота, погребавшие на своем дне целые города, сотни деревень, сел.
А тут всего-навсего какие-то деревья в черте города, под окнами служебных кабинетов, пакостно себя ведут, не позволяют спокойно жить! Убрать - и точка!
И безвозвратно, навсегда исчезла вся та картинная живописность, рожденная словно бы не самою природой, а по замыслу талантливого художника, тот необыкновенный уют, что создавали они на городских улицах, особенно - уличках, сбегающих по склонам к реке, с одноэтажными домишками, каждый на свой манер, голубятнями во дворах, с лохматыми Шариками и Тузиками в подворотнях. С тополями ушла из города и прохлада, живительный озон, каким веяло от них даже в самые жаркие дни. И как уродливо, безобразно, грубо вылезло, выперло, сунулось в глаза все то, что они скрывали, облагораживали своим присутствием, когда моторными пилами свалили их на землю, рассекли на части, на плачущие живым соком обрубки, увезли в кузовах грохочущих грузовиков: плешины осыпавшейся штукатурки на стенах, кривизна и неряшество заборов, ворот, калиток, ржавь заплатанных крыш, сгнивших, полуоборванных, висящих обрывками водосточных труб, выбоины, щербины давно не ремонтированных тротуаров.
Долго, годами царапало все это глаза.
Сейчас на большинстве улиц порядок, выглядят они вполне благообразно: что надо - побелено, подкрашено, подправлено. Уже не споткнешься на тротуаре, не провалишься ногой в яму.
Но, попадая на Комиссаржевскую, оголенную во весь свой пролет, слившуюся своим обликом со множеством других городских улиц, лишенную былого своеобразия, красочности, звавшей на каждом шагу взяться за карандаш или кисть, всякий раз я как бы вижу ее впервые, не вполне узнаю, смотрю с удивлением: неужели это она, улица моего детства?
3
Южные ветры, несущие с собой первое тепло близящейся весны, заставлявшие вспомнить о Черном и Азовском морях, о лежащих за ними странах, где о снеге знают только понаслышке, достигали города почему-то всегда под вечер, и потом, то сильней, то ненадолго притихая, шумели в ветвях екатерининских тополей всю ночь.
Вот таким мартовским вечером, под шум и метание тополевых ветвей над головой, в густеющем с каждой минутой сумраке, пронизанном желтыми звездами уличных фонарей, разноцветными пятнами окон, в которых за матерчатыми занавесками уже зажглось электричество, по тающему тротуарному льду, обегая уже появившиеся лужи, спешил я по Комиссаржевской к большому дому с колоннами, в том ее месте, где она смыкается с главным городским проспектом, прямолинейным, как стрела. В доме с колоннами, бывшем особняке местного купца-богача, помещалась редакция молодежной газеты. В семь вечера должно было начаться занятие литературного кружка.
Полчаса назад я прибежал из школы домой, все старшие классы занимались во вторую смену, с полудня до шести, торопливо похлебал из тарелки заранее разогретый мамой борщ, отказался от второго блюда, боясь опоздать, и опрометью, кинулся из дома в редакцию, хотя времени до начала литкружка было еще достаточно.
Все мои школьные годы мною владели какие-нибудь увлечения. Каждому из них я отдавался со всем пылом души, со всей страстью. Первым таким увлечением были самодеятельные театральные представления. Вовлек меня в них мой сосед по лестничной площадке Юрка Сушков. Но был немного старше меня, невероятно предприимчив, изобретателен, инициативен. Побывав раза два в настоящем театре, он решил устроить нечто подобное у себя дома. В свой замысел он втянул еще несколько мальчишек и девчонок из соседних квартир. Мы клеили из бумаги царские короны и картузы, рабочих, делали из пакли бороды и усы. Текст пьесы сочинял сам Юрка Сушков. Реплики действующих лиц он писал на узких бумажках и давал ⌠актерам■ заучивать. Но потом замысел его менялся, он писал новые реплики - и опять давал заучивать. Старое мешалось с новым. В результате образовалась такая каша, в которой уже невозможно было разобраться. Никто толком не знал, что следует говорить. Среди действующих лиц были царь и царица, слуги, жандармы, сыщики, рабочий Степан Халтурин. Происходил взрыв в царском дворце. С трудом, но можно было догадаться, что в сюжете использована история революционера Степана Халтурина - как она изложена в наших школьных учебниках обществоведения. Может быть, Юрка читал и еще что-то в каких-то других книгах.
Зрителями на представлении были мальчишки и девчонки нашего дома. Для них в передней Юркиной квартиры поставили стулья, сценой была комната, открывавшаяся через прямоугольных дверей. Среди зрителей были совсем маленькие. Один из них заснул, другой, не выдержав долгого представления, описался. Незаснувшие и неописавшиеся зрители остались довольны, просили новых спектаклей. Кроме того, почти все зрители просились в актеры, таким заманчивым оказалось наряжаться, приклеивать бороды и усы. Юрка Сушков упивался ролью драматурга и режиссера. Чего только ни показал наш театр за полтора-два месяца своего существования, пока горела страсть к актерству. Поход французов на Москву и Бородинскую битву, - тоже из учебника обществоведения. Восстание Пугачева и его казнь с отсечением головы на плахе. Плаху заменяла табуретка, отсеченная голова была изготовлена из детского мяча, зашитого в тряпки телесного цвета с кумачом, который воспринимался как кровь. Сцена казни получилась великолепно, не зря ее много раз репетировали. Пугачева со связанными руками подводили к плахе, он прощался с народом - как написано Пушкиным в ⌠Капитанской дочке■, клал свою голову на плаху, его накрывали черной материей, палач (Юрка Сушков) взмахивал фанерным топором, поднимал за волосы окровавленную голову, заранее спрятанную возле табуретки - и бросал ее прямо в зрителей. Даже те, кто знал об этом трюке, участвовал в изготовлении головы - все равно вскрикивали от ужаса.
В классе шестом я прочитал о Циолковском, по экранам страны прошел фильм ⌠Полет на Луну■ - и я увлекся космонавтикой. Тогда она называлась не так: ракетоплавание, межпланетные сообщения. С моим одноклассником Володькой Головиным мы построили и запустили ракету на медленногорящем порохе, сделанном из охотничьего, черного, зернистого, как икра. Ракету мы запускали за сараями нашего дома, эта территория называлась ⌠задним двором■. Ракета поднялась метров на тридцать над землей и взорвалась с силой артилллерийского снаряда. Рецепт приготовления пороха нас подвел, мы готовили его по частям, и какая-то часть сохранила свои прежние свойства. Взрывная волна выбила стекла в нашем доме и в соседних. Мы с Володькой благополучно смылись с места запуска. Приходила милиция, домоуправ, осматривали ⌠задний двор■, эстакаду для запуска из тонких металлических реек, но ничего не поняли. Им и в голову не могло прийти, что оглушительный взрыв, потрясший несколько городских улиц, оставивший без оконных стекол полдесятка больших домов, связан с первым в Советском Союзе стартом ракетоплана на Луну. Что на ⌠заднем дворе■ дома номер 15 действовали отнюдь не хулиганствующие пацаны, а возможные в будущем соратники и конкуренты академика Королева. Впрочем, о Королеве в те годы никто ничего не слышал, он сидел, как сейчас это известно, в ежовско-бериевском ГУЛАГе, и с низшим образованием и вообще без всякого образования следователи ГБ, каким были сам нарком Ежов, били его в печень и ребра, добиваясь признания, что он изменник Родины, предатель, тайный агент Германии, Японии и всех прочих капиталистических государств.
Мое увлечение космонавтикой продолжалось недолго. Я скоро убедился, что это дело прочно связано с математикой, точными расчетами, а математику я не любил, она была противопоказана всей моей натуре, ее преподавала в школе сухая, черствая, холодная, как лед, никогда не улыбавшаяся, без капли теплоты Анна Александровна Карпова (мир ее праху!), ни разу нам, ученикам, доходчиво, понятно не объяснившая, а зачем, собственно, математика нужна, с чем она связана, какое может быть ей применение в дальнейшем... нашей жизни. Девчонки-отличницы, не задаваясь этими вопросами, добросовестно, механически, как и положено отличницам, зубрили теоремы, аксиомы, формулы и ⌠доказательства■, получали за свои ответы ⌠пятерки■, я же, не понимая главного, сути, смысла, практического применения аксиом и теорем, чувствовал себя распоследним тупицей на классных занятиях и над домашними заданиями, и каждый раз у доски или за письменную ⌠контрольную■ получал от Анны Александровны Карповой заслуженную ⌠двойку■. И космонавтика покинула меня, как нечто для меня незаконное, не по праву. И только спустя уже много-много лет, когда вокруг Земли полетели Белка и Стрелка, полетел Юрий Гагарин, и наши газеты стали печатать о космических полетах кое-какие подробности, раскрывать кое-какие секреты, - я ахнул: да у нас с Вовкой Головиным в наших детских чертежах было уже все это: три ракетных ступени для разгона, круглая, как бильярдный шар, капсула с человеком внутри (Вовка заявлял, что это будет он), отделяющаяся от головной ступени и летящая, как спутник, как маленькая Луна, вокруг Земли...
В следующих классах я увлекался рисованием, фотографированием, военной историей. Изучал войны. Первую мировую по трехтомнику полковника Генерального штаба Зайончковского проштудировал капитально. Знал движение во фронтовых условиях каждой русской и германской дивизии, каждого корпуса.
Но все это было детство. Оно - кончилось. Вернее - кончалось. Это я чувствовал. Что-то во мне происходило, менялось, я становился другим. Что несло с собой появление новых качеств? Первые проблески моего будущего?
На проспекте, между бывшей семинарией и двухэтажным домом со львиными мордами на фасаде, где в прошлом веке была гостиница, останавливался Лермонтов, проезжая на Кавказ, был прогал. С этого места были видны улицы, сбегающие вниз, к реке, широкая пойма; летом она представляла собой зеленеющий луг, зимой - ровную снежную плоскость, весной - широкое половодье с плывущими льдинами. Дальше синели леса, уходили куда-то за туманный горизонт. Раньше я пробегал мимо этого прогала, не замедляя шагов. В той панораме, что открывалась с нагорья, не было для меня ничего интересного. А теперь она меня притягивала, я замирал на месте и долго смотрел. На синие полоски лесов, на дальний смутный горизонт. Какая-то совсем физическая сила влекла меня в эту даль, хотелось отдаться ей полностью, улететь в заманчивую неизвестность, ничего не спрашивая, не думая, вернусь ли я...
Как-то необычно стали волновать слова. Литература, что преподавалась в школе, была суха, безжизненна. Произведения, входившие в программу, препарировались так холодно и рассудочно, что это только отталкивало от них. ⌠Приведите выражения, какими писатель характеризует пустоту, никчемность Евгения Онегина...■ ⌠А сегодня мы разберем образ Обломова как представителя паразитического класса помещиков-крепостников, неспособных к активной, общественно полезной деятельности■...
Но вот я брал сам то, что попадало в руки, часто - совершенно случайно, открывал. ⌠В старой треуголке, юркий и маленький, в синей шинели с продранными локтями, он надевал зимой теплые валенки и укутывал горло шарфами и платками. В те времена по дорогам скрипели еще дилижансы, и кучера сидели на козлах в камзолах и фетровых шляпах...■
И у меня сжималось сердце от чувств, от красок, какими были наполнены эти строки, и еще от чего-то невыразимого, что в них присутствовало, что они в себе несли, заключали...
Я открываю другую, тоже случайную, книгу:
О, Валенсия, тонкие башни,
О, Валенсия, светлые ночи,
Я останусь с тобой навсегда.
День уходит вчерашний,
Вырастает песок у моря,
Отступает пред ним в пространство
Фиолетовая волна...
И у меня опять сдавливало сердце, перехватывало горло. Я никогда не был в Испании, в сказочной Валенсии, не видел ее башен, фиолетовых волн, тихо отступающих на закате в морское лоно от песчаного берега. Но и мне все это становилось таким же бесконечно дорогим и уже никогда не забываемым, каким было для того, кто, покидая свою родину, может быть - уходя из мира совсем, начертал эти прощальные строки...
Как было назвать ту волнующую силу, ту музыку, что стали открываться мне в словах, что стал я в них чувствовать, что властно брали всего меня в плен? Я не сразу догадался, что то, что так действует, давно имеет свое название, и название это - поэзия. Объяснить, что это такое - при всем старании невозможно. Этого еще не сделал никто. Ее нельзя выделить в чистом, отдельном виде, как извлекают из растений и плодов соки, аромат, витамины, - хотя у этих веществ с поэзией есть родство. Но поэзия - нечто более таинственное, магическое, волшебное. В скрытом виде эта магия присутствует в любом слове, даже в самых обыкновенных, рядом с их открытым для всех, всем доступным и понятным смыслом. Только звучат тайные, магические, волшебные струны, сокрытые в словах, не всегда. Для этого нужно, чтобы к ним прикоснулась рука настоящего мастера, волшебника слова. Его душа, сердце, разум. Его талант, который, как любой талант, не рождается на земле, его происхождение от Бога...
Спустя какое-то время в городской молодежной газете я прочитал объявление, что при редакции создается литературный кружок из начинающих поэтов и прозаиков, приглашаются все желающие.
Мог ли я не откликнуться на призыв, не пойти на занятие этого кружка?
4
На первый раз в самой большой редакционной комнате с длинным дубовым столом, за которым проводятся редакционные ⌠летучки■, собралось человек сто. Сразу же надышали так, что стало не хватать воздуха, открыли наружу все форточки.
Забегая вперед, скажу, что на следующие занятия приходило гораздо меньше; те, в ком было лишь любопытство, отсеивались; в конце концов осталось человек двадцать. Но и из этих, оставшихся, приходивших на каждое занятие, половина была статистами, не предлагали вниманию кружковцев никакого своего творчества. По-видимому, эти люди отличались повышенным самолюбием, боялись критики. Они даже совсем не участвовали в обсуждении чужих стихов и рассказов, не высказывали своих мнений, - слова из них вытащить было невозможно. Однако все, что говорили другие, слушали с напряженным вниманием, на каждом занятии досиживали до конца.
Первое собрание началось с составления списка - чтобы выяснить, каков же состав кружковцев. Редакционный сотрудник Филипп Тулинов, руководитель кружка, подавший мысль организовать его при редакции, на листе газетной бумаги, на которой молодежные журналисты писали свои статьи, и заметки, столбцом записывал фамилии, имена. Если школьник - номер школы, в каком классе. Если студент - название вуза, факультета, на каком курсе. Среди пришедших был уже не совсем молодой человек в черной, похожей на инженерскую, форме, с петлицами на кителе, какими-то странными знаками в них. Когда до него дошла очередь, он по-военному встал, на вопрос о профессии ответил: торфмейстер.
Сколько живу - никогда, нигде не встречал я больше людей в такой форме, с таким званием: торфмейстер.
Едва список был доведен до конца, торфмейстер тут же попросил слова, опять встал и прочитал несколько измятых, сложенных вчетверо страничек, достав их из нагрудного кармана кителя. Это была довольно грамотно, со знанием дела, но сухим производственным языком написанная статья, призывавшая развивать в области торфодобычу. Кружковцы слушали инженера с некоторым замешательством, совсем не того ждали они на собрании, Тулинов тоже был заметно смущен, но преподал всем урок вежливости: не перебивая, не останавливая инженера, дослушал его сочинение до конца, похвалил статью, сказал, что ее надо передать в областную газету, там ее обязательно используют. Назвал фамилию - кому. Поблагодарив, удовлетворенный инженер в мундире черного, болотно-торфяного цвета ушел, и больше на занятиях литкружка его никогда не видели.
Ко второму-третьему занятию (а они происходили в две недели раз) уже выделилось несколько человек, одни - своими удачными творческими попытками, другие - своей активностью при обсуждении литературных опытов других. Некоторые памятны мне до сих пор.
Фамилии, имени не помню. Был он студентом педагогического института, не горожанин, откуда-то из районных глубинок, живущий в студенческом общежитии, где семь-восемь коек в одной комнате, одна электрическая лампочка на голом шнуре под потолком, туалет с водопроводным краном для умывания один на всех, на все четырехэтажное здание - в сыром, холодном подвальном этаже; столовая - за три или четыре квартала от общежития; постирать бельишко - занимайся этим сам, в холодной воде, в том же подвале, где туалет, или ищи какую-нибудь тетю Нюшу, которая постирает примерно так же, но за целковый. Вот такой был тогда студенческий быт, и считалось, что это нормально, очень даже неплохо, можно даже позавидовать: койка в общежитии с постельным бельем - бесплатно, обед в столовой из трех блюд с клюквенным киселем в заключение - всего 20 копеек. Хлеб при этом - 1 копейка ломтик. Мало супа, каши, не наелся - бери еще на пятак хлеба, ешь...
Поношенный пиджак, вытертые на коленях брюки, белобрыс, лицо худое, узкое, желтоватое; явно - существует впроголодь, только на жиденьком, синеватом перловом супе и тушеной капусте студенческой столовой, а больше подкормиться нечем, из дома - ни денег, ни продуктовых посылок. Ногти обкусанные, всегда он в состоянии нетерпения, движения куда-то, спешки. На занятия литкружка прибегает, словно откуда-то с трудом вырвавшись. И надо ему еще куда-то спешить, бежать, стул просто горит под ним. Поэтому слушает всех говорящих нетерпеливо, дергаясь, мучаясь, что говорят длинно, не то, что надо, он сам мог бы за всех все сказать - и гораздо, как он уверен, убежден, лучше, умнее, точнее, ученей. Однажды в своем состоянии сжигающего его нетерпения спешки, недовольства и раздражения многословием и бессодержательностью звучащих речей, он безапелляционно и самоуверенно, нисколько не чувствуя этой своей бестактной самоуверенности и не стесняясь ее, так прямо и заявил:
- Знаете, зачем так долго, длинно, всем подряд, говорить? Это же просто восточный базар какой-то! Новгородское вече! Дайте все стихи мне, все рассказы, я прочту, правда, времени у меня мало, впереди два зачета, семинар по древнерусскому, но я все-таки прочитаю, между лекциями, за счет сна, а потом приду и скажу обо всем сразу: что чего стоит. Кто талант, а кому надо бросить свое сочинительство и никогда за него не браться...
Внешне в нем было сходство с Белинским. ⌠Неистовым Виссарионом■. Такое же блондинистое, стертое, без всяких характерностей, отличительных черт, примет лицо. Такой же косой зачес жиденьких волос. Красноватые глаза в мигающих белесых ресницах, воспаленные от чтения в скудном свете общежитских электрических лампочек. Когда я теперь вспоминаю этого нервного, худосочного, дергающегося парня, - а теперь я гораздо больше знаю о Белинском, чем знал тогда, - у меня появляется чувство, будто в своей юности я лично видел и знал Неистового Виссариона. И уверенность, что студент тот, стремившийся и считавший себя вправе самолично рассудить всех начинающихся поэтов и прозаиков и приговорить каждого из них, кого - к будущей славе, кого - к творческому бесплодию, немоте, имел с Белинским не только внешнее, но и, во многом, внутреннее сходство. Да, вот такой, именно такой был незабвенный Виссарион Григорьевич, наделавший столько шума в литературном мире своего времени: ему тоже не нужны были ничьи мнения, они ему только мешали, сбивали с толка, казались совершенно лишними, он их просто не слушал. Он тоже считал, что лучше всех сможет разобрать, понять и оценить любое произведение, что приговор его - самый верный и точный...
Фамилию другого критика я помню - Плужников. Я называю его критиком, хотя свои замечания, мнения, оценки он ни разу не высказал вслух. Но он их высказывал. По-другому: безмолвно, одним лишь своим видом, с каким присутствовал на занятиях, воспринимал то, что читали вслух кружковцы. Выражением глаз, лица, еще чем-то незримым, что от него исходило. Это был еще очень молодой парень, просто мальчик. Он приходил всегда в сопровождении двух-трех своих товарищей, явных поклонников его ума, способностей, всей его личности. Товарищи были гораздо старше, лет двадцати, а самому Плужникову, вероятно, не сравнялось еще и семнадцати. Всегда на нем был клетчатый, редкий в тогдашнем обиходе, серо-зеленый пиджак, белая сорочка с пристежным крахмальным воротничком и галстук с золоченым зажимом, блестевшим крупным граненым камнем. В обшлагах сорочки, выглядывавших из рукавов его клетчатого пиджака, сверкали золоченые запонки - тоже с гранеными камнями. В руках его всегда была черная, английского фасона, трубка с прямым мундштуком. Из таких трубок курят капитаны кораблей, шкипера, лоцманы. Может быть, эту трубку действительно курил какой-нибудь английский капитан или шкипер, а уж потом она попала к Плужникову. Но сам Плужников ее не курил. Он вообще не курил. Он только держал трубку в руках. Но и этого было достаточно, чтобы сразу же обратить на себя внимание всех окружающих, резко себя выделить, придать себе вес и какую-то особую значимость.
Он никогда не приходил к началу занятий, а всегда на минуту-другую позже. Никогда не садился вместе со всеми, за общий полированный дубовый стол, а всегда в стороне, за какой-нибудь пустой редакционный столик. Руки - на поверхности, вытянуты во всю длину, в пальцах - трубка. Товарищи его помещались справа и слева - и всегда чуть-чуть позади. Как адъютанты за спиной командующего. Плужников только слушал. Живые черные глаза его смотрели остро, внимательно, ничего не пропуская, на все немедленно, в то же мгновение, реагируя переменою своего выражения, с постоянно присутствующей в них ядовитой иронией. Никогда, даже во время самых жарких споров, он не бросил ни одной реплики, никогда не попросил себя слова. Товарищи его тоже были безмолвны. Но всегда чувствовалось, что среди присутствовавших - он самый строгий, самый жесткий, беспощадный судья, и если бы он высказался, наверное, он поразил бы всех зрелостью, меткостью и бесспорной точностью своих суждений.
Иногда, слегка повернув голову к товарищам, он тихо бросал какие-то слова, и по их лицам было видно, как они дружно согласны со своим кумиром, как восхищены его беспощадной остротой.
Плужников никогда не досиживал до конца дебатов, всегда уходил раньше. Как будто ему решительно надоело все, что происходит, читается, говорится, и он не желает больше тратить свое время на этот детский вздор. Он и компания его уходили с шумом, не стесняясь его производить, напротив, намеренно, демонстративно его создавая. Не в паузы, а посреди чьего-нибудь выступления, а то и чтения стихотворений. Первым поднимался Плужников, громко отодвигал стул, за ним шла к выходу его свита. В фигуре Плужникова, в спинах его товарищей читалось презрение к тому, что они оставляют за собой. Казалось, Плужников и его друзья на занятиях кружка не появятся больше никогда. Но в следующий раз они являлись опять, в полном, а то и увеличенном составе, опять точно так же себя вели и опять шумно, с презрением, посреди чьих-нибудь стихов, уходили.
После войны мне долго хотелось узнать: что же все-таки вышло из Плужникова, где он, кем стал, какова его судьба? По-прежнему ли он так же влиятелен и авторитетен в своем окружении, есть ли возле него преданные ему адепты, так же точно смотрят ему в рот, ловят и повторяют его слова и мысли? Но, сколько я ни расспрашивал людей - о Плужникове никто ничего не мог мне сказать. Скорее всего - война его не пощадила. А жаль. С закидонами, а все же необычный, и, надо полагать, даровитый был парень...
5
Помню Пашу Романова. В школе, где он учился, он был активным, обремененным множеством нагрузок комсомольским деятелем. Времени на литкружок ему тоже не хватало, на занятия он прибегал запыхавшись, просил ⌠пропустить■ его вне очереди, говорил:
- Я только прочту свои новые стихи, и мне сразу же надо бежать в райком комсомола на бюро. Принимают пятерых наших ребят, я представляю их от комитета школы. А вы мне только в двух словах: получилось, нет? Если нет - тут же рву. Стихи - они рождаются сами, сразу. А мусолить, так-этак переделывать, - это уже не стихи, не поэзия... Это портные так сношенные штаны латают, перелатывают, лишь бы как-нибудь еще пару недель поносились...
Паше Романову давали выступить, и он, вытянувшись, напружинившись, как в строю, откинув назад голову, рубил словно топором, по отдельности выбрасывая из себя каждое слово:
Смотрю - не моргнув,
Стою - не дыша,
Восторгом силы удвоены:
Проходят мимо, чеканя шаг,
Советской республики воины...
Все его стихи были под Маяковского. Это был его бог, его учитель. Паша Романов откровенно подражал. Стихи его регулярно печатались. Часто - на первой полосе, крупным шрифтом. Настоящие артисты читали их по радио. Иногда и сам он их читал, - в каком-то свирепом экстазе, так же пружинно, поодиночке, выбрасывая в эфир каждое слово. Подражательство Маяковскому не считалось чем-то плохим. Напротив. Маяковский тогда для всех, во всей советской поэзии был учителем и образцом. Сталин сказал: ⌠Самый лучший, самый талантливейший поэт нашей советской эпохи!■ Эти слова наизусть знал каждый школьник, их без конца повторяли по радио, в газетах. Не обходилось ни одного театрального концерта, ни одного торжественного вечера, вступлений художественной самодеятельности, чтобы не звучали стихи Маяковского: ⌠...И жизнь хороша, и жить хорошо!..■, ⌠...Читайте, завидуйте, я - гражданин Советского Союза!■
Паша Романов и после войны писал стихотворения. В том же примерно ключе, в том же усвоенном духе. Написал немало. Но времена изменились, мода на Маяковского прошла. Чтобы существовать, действовать как поэт, надо было иметь собственный голос. Хоть какой, хоть самый скромный, негромкий, но собственный. А собственного голоса у Паши Романова не было. Кто его теперь помнит?
6
Виктор Поляков долго упирался, не хотел оглашать на литкружке свои стихи. Вроде бы скромничал. А в чем была настоящая причина - неизвестно. Наконец - принес.
Поляков уже закончил школу, учился на первом курсе педагогического института. В свои двадцать лет, с крупным мясистым носом, с толстыми очками в роговой оправе, свисающими надо лбом с двух сторон густыми прядями волос, он выглядел гораздо старше, у него был облик уже маститого научного работника, кандидата или даже доктора наук. Наверное, он им и стал бы, если бы не разразившаяся через несколько месяцев война. Как и всей молодежи его возраста, Полякову принесли из военкомата повестку. Со своей близорукостью на фронт он не годился, направили его в милицию. Там в связи с мобилизацией оголение кадров, грамотные люди край как нужны. И пошла жизнь Виктора Полякова, книгочея, кабинетного человека, чуравшегося спорта, всего, что связано с физическими нагрузками, мускульными движениями, - и на многие годы после войны, - совсем не в том направлении, в каком он строил свои мечты и планы...
С собой Поляков принес толстую пачку обычных школьных тетрадок; стихи он писал в детских тетрадках в линейку. Это было необычно, непохоже на других; никто не писал стихи в школьных тетрадках, писали на чем угодно: на клочках, на обрывках, в толстых конторских книгах из грубой, шершавой бумаги, чтобы иметь свое творчество в виде солидного однотомника, под одной обложкой, но только не в ученических тетрадях.
Тетради были пронумерованы. Поляков их раскрыл, разложил широким веером перед собой на столе. Веер занял едва ли не половину дубового стола, который по своей площади вполне годился для того, чтобы играть на нем в пинг-понг.
Оказалось, стихов не так уж много, зато много их вариантов. По 7-8 вариантов каждого стихотворения.
Помолчав, секунду-другую побыв неподвижности, как дирижер над пультом с развернутой партитурой, прежде чем взмахнуть своей палочкой и дать волю музыке, Виктор Поляков сказал, что он не знает, какой вариант у него лучше, поэтому он будет читать их друг за другом, все, а кружковцы пусть потом определят и скажут - какой лучше, на чем ему остановиться.
У меня даже дрогнуло все внутри: каждое стихотворение в нескольких вариантах! Если я что-нибудь пытался сочинить - у меня получался всего лишь один. С поправками, вымарками, вставками, но - один. А у Полякова - 7-8 каждого стихотворения!
Боже мой, среди каких талантов я нахожусь! На что же мне надеяться, если я способен всего-навсего лишь на один вариант!
Все варианты Полякова были хороши, действительно, трудно был признать какой-либо один из них лучшим, отдать какому-то одному предпочтение. Варианты, на мой взгляд, можно было вообще не писать, ничего они не добавляли, не улучшали, не усиливали. А Поляков зачем-то их написал. Долго сидел над каждым, искал слова, образы, эпитеты, оттачивал. Мне показалось, что я его разгадываю: варианты есть у всех больших, настоящих поэтов, у Пушкина, Лермонтова. Как же ему, Полякову, поставившему себе цель быть в поэзии крупной величиной, без вариантов? Несерьезно! Не выглядит настоящей творческой работой, настоящими исканиями и находками...
В этот вечер произошло необычайное: Плужников и члены его команды досидели до конца. Причем - Плужников без привычной своей иронии на лице. Сказать он и на этот раз ничего вслух не сказал, но и ничего не шепнул своим друзьям, чтобы те, переглядываясь, поддерживая своего лидера, согласно закивали головами и враз, все вместе, выпустили на свои лица иронические улыбки.
Виктору Полякову повезло: он пережил войну, не бедствовал в послевоенные годы, имел все возможности заниматься литературным творчеством, писать и стихи, и прозу. Ему было о чем рассказать, оставить людям в познание и в назидание. Долгие годы он проработал следователем по раскрытию опасных преступлений, повидал, изучил самую отпетую шпану, воров ⌠в законе■, матерых убийц. Судьба и служба на долгие сроки забрасывали его на дальний север Сибири, на крайний запад страны - в Молдавию, Буковину, когда там еще вовсю шла война с бендеровцами, прятавшимися в горах, в лесах, в подземных ⌠схронах■. Прожил Поляков полных 70 лет. Не всем подряд такое удается. Но оставил он своего лишь пару тоненьких книжечек с полусотней ничем особенно не примечательных стихов, начисто лишенных той свежести, своеобразия, что присутствовали в его начальных опытах. Одна из книжечек называется ⌠След■. Только эти книжечки в обложках из магазинной оберточной бумаги и составили, к сожалению, земной след его бесспорной нерядовой литературной одаренности...
7
В тот до сих пор памятный мне мартовский вечер, когда первые волны южного ветра, налетая шквальными порывами, из стороны в сторону раскачивали уличные тополя и многоголосо, порой с режущим свистом шумели в голых, но уже просыпающихся от долгой зимней спячки ветвях, я бежал в редакцию так стремительно, с таким нетерпением потому, что на последнем занятии кружка наш руководитель Филипп Тулинов объявил, что в следующий раз мы займемся не своими стихами, нам предстоит более интересное: встреча с молодым, но уже настоящим писателем Федором Волоховым, только что выпустившим книжку своих рассказов под названием ⌠Кленовые листья■.
Это имя - Федор Волохов - было мне уже знакомо, а книжка его ⌠Кленовые листья■, блокнотного формата, тоненькая, меньше ста страниц, в переплете из голого желтоватого картона, какой идет на магазинные коробки для обуви, лежала у нас в доме на моем столике, за которым я готовил уроки, прочитанная мною от начала до конца, а некоторые рассказы - так и по два, по три раза.
Неделю назад мама, ходившая за продуктами на базар, вернулась домой в необычном, каком-то приподнятом состоянии. Рассказала: на обратном пути зашла в книжный магазин узнать: поступили отрывные календари? Год давно начался, а календарей все нет и нет. Видит: у прилавка скопление людей, толчея. Но не за календарями, их по-прежнему нет, продается новая книжка. Продавщица распускает на книжных пачках шпагат, шуршит оберточной бумагой, а рядом с ней - автор этой самой книжки, кто покупает - делает каждому на титульном листе надпись. Возрастом, сказала мама, ну просто вчерашний студент, чернявый, что-то в нем цыганское, глаза с блеском, так и сверкают. Очень доволен, что люди охотно покупают его книжку, перед ним очередь. Некоторые берут даже два-три экземпляра, - в подарок друзьям, для знакомых.
Денег в нашей семье всегда было не густо, прежде чем что-нибудь купить - мама раздумывала: стоит ли, как это отразится на нашем семейном бюджете. Но тут не устояла, купила: ведь это так необычно - из рук самого автора, с его подписью. ⌠Два рубля всего...■ - сказала мама как бы в извинение за проявленную ею слабость, доставая из базарной сумки желтую книжку с контуром кленового листа на обложке.
Я взял ее в руки с теми же чувствами, что были у мамы. Почти все писатели, книги которых я читал, жили давно и давно умерли, - Пушкин, Лермонтов, Толстой, Гоголь... Жюль Верн, Стивенсон... А живые, современные, находились где-то далеко, в Москве, Ленинграде, других городах и странах. А вот эта книжка написана в нашем городе, может быть - даже в доме на соседней улице, мимо которого я хожу; мама только что видела, слышала ее автора, книжка прямо из его рук - да еще с надписью синими чернилами, ⌠вечным пером■, красивым четким почерком: ⌠Любови Дмитриевне - на добрую память...■ Чудо - да и только!
Не знаю, как бы я воспринял содержание, если бы эта книжка попала в наш дом каким-либо иным образом, не таким, каким она попала. Если бы автор представлял для меня нечто бестелесное, абстрактное, просто одно имя - как авторы всех других книг, что я читал.
Но мама так живо рассказала о бойкой распродаже в магазине, так впечатляюще нарисовала портрет молодого автора, который написал ⌠Кленовые листья■, наверное, тем же самым пером, каким вывел он мамино имя на первой книжной странице... С такой предысторией книга становилась для меня совсем особой, и читал я ее совсем не так, как все другие книги. Она меня восхитила. Прежде всего - язык. Самые обычные, употребляемые в обыкновенной человеческой речи слова, короткие, несложные, почти без придаточных предложений фразы, никакой вроде бы ⌠художественности■ - а как все зримо, явственно, так и встает перед глазами, сколько истинной художественности - без видимого стремления к ней...
⌠Боль сидела в нем, как зверь в засаде. Лежал Парфен слабый, тихий. У него заострился нос. Кожа лица стала шершавой и желтой, как тыльная сторона новой подошвы. Поверх одеяла положена его рука. Ближе к локтю, где засучился рукав, она белела, как мрамор с неровными синими жилками. Жилки - это вздутые вены. Пальцы скрючены, словно в них зажат камень. Временами Парфен поднимал руку и опускал ее, быстро и тяжело. Рука падала, как сырое бревно, брошенное с высоты на землю. Все чаще у койки Парфена сидели врачи. Безжизненными глазами Парфен смотрел на них серьезные лица, точно просил пощады...■
Точность, четкость всех подробностей, ни одного лишнего, ненужного слова - совсем как у Чехова. И такие же, как у Чехова, простые, естественные сюжеты. Просто эпизоды, сцены из той будничной жизни, что вокруг, без всяких дополнительных придумок. И каждая такая незамысловатая история, потому что жизненна, узнаешь в ней то, что видел сам, да не вгляделся со вниманием, не вдумался, глубоко трогает, даже щемит сердце. Хотя бы вот этот рассказ про старика, колхозного пасечника Парфена, с которого начинается книга. Вся жизнь Парфена прошла в работе. Лежать в больнице не приходилось никогда. Всеми своими чувствами, помыслами стремится он из больничных стен на волю, думает о пасеке, оставшейся без хозяина, как пойдет он косить в луга новой косой, она куплена им еще весною, только ее отточить да приладить на рукоятку... Но не вернуться Парфену к своим пчелам, не косить ему молодую, сочную траву, - умирает он в больнице...
Восхищение нисколько не пригасло во мне, даже когда я перечитал ⌠Кленовые листья■ во второй раз. Простое соображение, которое должно было сразу же прийти мне в голову - что ярко, зримо, выпукло, как у Чехова, у автора ⌠Кленовых листьев■ именно потому, что он след в след, вплотную идет за Чеховым, повторяет его приемы, простоту языка, бытовую несложность его сюжетов - по тогдашнему моему зеленому мальчишеству, неумению без эмоций, вызванных чтением, спокойно подумать над страницами, трезво их оценить, и тенью не мелькнуло тогда в моей голове...
8
Здание, в котором помещалась редакция молодежной газеты, внушительных размеров барский особняк XVIII столетия с колоннами, фасадом выходило на проспект, редакция же находилась в боковой части, вход в нее был с Комиссаржевской. После войны, когда это разрушенное, полностью выгоревшее внутри здание восстанавливали, вход с Комиссаржевской замуровали, заштукатурили заодно со стеной, а с наружной стороны, на тротуаре, как раз там, где были каменные ступени, поставили будочку чистильщика обуви. Множество раз в этой будочке армянин-чистильщик наводил блеск на мои ботинки, а я, сидя перед ним и ожидая, когда он закончит свой труд, вспоминал, как проходил в этом месте в замурованную теперь редакционную дверь, всегда со стучащим в груди сердцем - от предвкушения той новизны, впечатлений и удовольствий, что приносило каждое занятие литкружка.
Дверь была на тугой пружине, всякий раз приходилось с силой толкать ее внутрь, а она старалась не поддаваться, вытолкнуть тебя назад. Сразу же в ноздри ударял запах редакции: запах керосина, скипидара, горячего свинца, чего-то еще, чем пахли принесенные из типографии гранки - узкие полоски бумаги с оттисками тех статей и заметок, что появятся в завтрашнем номере. На всю жизнь этот запах, для кого-то, может быть, неприятный, раздражающий, остался для меня самым любимым изо всех запахов, приятней всех в мире духов и одеколонов. Попадая потом в типографии, редакции городских, районных газет, я всегда с наслаждением втягивал его в себя, как, должно быть, бывалый солдат, прошедший через несколько войн, обоняет запах ружейного пороха, как цирковой артист - запах арены: опилок, конского пота, крокодиловой кожи тех хлыстов, на языке циркачей - шамберьеров, которыми дрессировщики щелкают в воздухе над головами тигров и львов погромче выстрелов из пистолета.
Как только, справившись с дверью, входишь внутрь, сразу же справа квадратная комнатушка в одно окно, в глубине - массивный письменный стол на двух тумбах, на нем телефон, электрическая лампа под черным пластмассовым колпаком. В вечернее время ее кронштейн наклонен низко, льется яркий свет на разложенные на столе бумаги. Их всегда много, целые вороха. Из столом - невысокого роста, плотного сложения человек в зеленой, военного покроя, гимнастерке с широким командирским ремнем. Это заведующий отделом культуры, литературы и искусства Филипп Тулинов. У него круглое, мягких очертаний лицо, короткий, неприметный нос, темно-каштановые, ершиком, слегка вьющиеся на концах волосы. Точь-в-точь комиссар Фурманов в фильме ⌠Чапаев■.
Я всегда застаю его пишущим. Ручка у него - толстая, деревянная, как гаванская сигара, с особым пером из твердой, негнущейся стали, способным забирать из чернильницы много чернил и долго их расходовать, почти на половину страницы. Профессиональное перо для журналистов, которые, по подсчетам - в мире ведь все подсчитано, точно установлено, пишут каждый день больше, чем люди всех других профессий. Иметь такое же перо - моя горячая мечта. Но в магазинах они не продаются, можно добыть только по счастливому случаю. Знакомый парень предлагает мне мену: на мой альбом с марками. Я собирал их несколько лет, есть совсем редкие: японские с Фудзиямой, австралийские с кенгуру и кроликами. Пока я колеблюсь. Слишком высока цена. Но страсть заиметь журналистское перо жжет, как огонь. Кажется, все-таки сменяю...
Строчки у Тулинова четкие, прямые, хотя он пишет не по линейкам, а на чистых листах. Одна страница рукописи - ровно одна страница после перепечатки на машинке. Когда он готовит статью - он всегда знает, сколько строк получится на газетной полосе.
Обычно я здороваюсь с Тулиновым, не переступая дверного порога. Какой бы срочной работой он ни был занят, как бы глубоко ни был погружен в свое писание - в ответ он всегда встает из-за стола, проводит руками по ремню, засунув под него большие пальцы, расправляя на себе гимнастерку. Протягивает руку, приглашая подойти, обменяться рукопожатием. ⌠Как жизнь, как дела, все нормально? Про уроки не забываешь, двоек не нахватал? Ну, проходи в зал, проходи, через десять минут начинаем...■
Армейскую выучку Тулинов получил на Дальнем Востоке, служил там младшим политруком. Как раз в то время развернулись бои с японцами на озере Хасан. Все это у него оттуда, с его дальневосточной службы: постоянная, не сменяемая на другую одежду, защитного цвета гимнастерка, обязательно встать навстречу пришедшему, движение рук по поясному ремню с медной, украшенной пятилучевой звездой бляхой - чтоб ни одной лишней складочки, по-строевому.
Он пишет не только газетные статьи, но и рассказы. Один из них напечатан в прошлом году в местном журнале. Время действия - гражданская война, главный персонаж - деревенский мальчишка лет десяти. Нетрудно догадаться, что мальчишка - это сам Филипп Тулинов. Рассказ воспоминательный, автобиографический, описан действительный случай из детства. Попасть на страницы толстого литературного журнала - это большое достижение. Признание литературной зрелости, мастерства. Как бы уже получить официальное писательское звание. Мы, кружковцы, это понимаем. Поэтому Тулинов для нас всех - бесспорный авторитет. Вроде командира с петлицами в литературных делах, а мы все только еще новобранцы, зеленые салажата...
...На войну Тулинов ушел в первую же неделю. Одни говорили - во фронтовые журналисты, другие - по своей прежней армейской специальности: политруком. Думаю, второе верней. Именно в этом образе я его вижу на войне: политрука, комиссара. Наверное, из-за очень уж большой его схожести с Фурмановым...
9
В этот раз остановиться на пороге тулиновского кабинета я не решился: наш руководитель был не один, занят разговором с иностранцем.
Иностранец сидел перед столом Тулинова, загораживая его собою, вполоборота к двери. Роскошное, цвета кофе с молоком, пальто с широкими плечами распахнуто, по груди разбросаны концы яркого клетчатого шарфа. Ноги он положил одна на другую, правый ботинок высоко в воздухе. Ботинки тоже великолепны: с квадратными носами, на толстой, в ладонь, подошве, рубчатой снизу, как шины автомобиля-грузовика. Шляпа иностранца, тоже кофейная, с блестящей муаровой лентой, небрежно брошена на стол Тулинова, прямо на его бумаги. ⌠Американец!■ - решил я. Никто бы не посмел положить так шляпу в учреждении, в редакции, только у американцев, как описывают их в книгах, такая свобода поведения, манер.
Иностранцы в нашем городе не часто, но все же появлялись. Инженер - для помощи нашим специалистам, строившим ВОГРЭС, завод синтетического каучука. Музыканты, выступавшие в филармонии. Однажды побывал знаменитый шахматист Сало Флор, давал сеанс одновременной игры на 25 досках. В центре квадрата, образованного шахматными столиками, на тумбочке горела спиртовка, Флор непрерывно подогревал на ней кофейник, маленькими глоточкам пил крепчайший черный кофе, - так и ходил вдоль досок с чашкой в руке. Выиграл все партии. Отчаянней всех сопротивлялся Флору маленький мальчик в коротких штанишках. Флор дважды предлагал ему ничью, но мальчик отказывался - он надеялся все-таки выиграть. В конце концов проиграл - и горько, неутешно заплакал. Этот мальчик в коротких штанишках был Волик Загоровский, впоследствии один из сильнейших российских гроссмейстеров, чемпион мира в шахматы по переписке. Сало Флор после матча сказал газетным репортерам: ⌠О, у этого малыша - хватка Николая Алехина! Что за город - Воронеж, я его боюсь! Он рождает таких шахматных бойцов! Мальчику всего десять лет, а он бился, как лев!■
Время от времени цирковые афиши извещали о гастролях заграничных фокусников, иллюзионистов. У кассы цирка бурлили толпы желающих попасть на представление, эти дни становились праздниками для спекулянтов билетами.
Не раз город видел спортсменов из разных стран. Однажды международные спортивные состязания на городском стадионе длились целую неделю. У немца-бегуна, победившего всех своих соперников, отчаянно работавшего в помощь себе руками, сорвалось с пальца обручальное кольцо. Пытаясь его найти, немец сразу же после бега, низко нагнувшись, прошел всю дистанцию - полный круг гаревой дорожки в четыреста метров. Но не нашел. Тогда вышла вся немецкая спортивная команда - бегуны, прыгуны, метатели дисков и копий, и проделали то же самое. Кольцо опять не нашлось. Немец-бегун был в отчаянии. Он только что женился. Как же он вернется в Германию к жене без обручального кольца? Дело не в золоте, не в его стоимости, потеря кольца - это дурной знак, недоброе предвестье их брачному союзу...
Начальником над стадионными рабочими был отставной боцман Черноморского флота семи пудов веса, татуированный с головы до ног. По его широкой волосатой груди в пенных волнах плыл кит с фонтаном над собой, на бугристых плечах резвились дельфины. Долгая боцманская служба задавала ему и не такие головоломки, как кольцо на четырехсотметровой гаревой дорожке шириною в десять метров. Он собрал весь свой штат: всех стадионных подметальщиков, поливальщиков, подстригателей травы на футбольном поле, кассиров, билетеров, столяров, маляров, электриков, - человек тридцать, если не больше, построил их в две шеренги поперек гаревой дорожки, посадили на корточки, и так, на корточках, по-гусиному переваливаясь, они двинулись по беговому кругу - не только тщательно просматривая перед собой каждый сантиметр, но и прощупывая, просеивая в пальцах шлаковое покрытие. Пройдя черепашьими темпами метров двести, они все-таки нашли кольцо. Немец-спортсмен был все себя от радости. Он обнимал и целовал стадионного рабочего, нашедшего кольцо, черноморского боцмана, придумавшего, как его найти, кувыркался и прыгал на футбольной траве. Если бы в эти мгновения ему пришло в голову подбежать в секторе для прыжков к планке - мировой рекорд в высоту, без сомнения, был бы тут же побит.
А однажды в гастрономе под гостиницей ⌠Бристоль■ на проспекте я увидел негра. До этого я видел их только на картинках: в набедренных повязках, почти голых, с кольцами на запястьях, в ушах и даже в носу. А этот негр был в великолепном сером костюме, белоснежной сорочке с твердым воротничком; галстук-бабочка с белыми горошинами на красном фоне горел на его шее. Он покупал копченую колбасу. Гастроном под ⌠Бристолем■ назывался ⌠коммерческий■. Даже богатому воображению не представить всего того, что его наполняло. Красная и черная икра в дубовых кадушках, из которых на весы ее кладут не ложками, не черпаками, а деревянными лопаточками, легкими, точными, натренированными движениями сбрасывая ее тяжелые комки на широкие, в квадратный метр, листы гремуче шуршащей пергаментной бумаги. Всех пород, во всех видах рыба: соленая, копченая, замороженная, свежая, даже живая, плавающая в гигантском аквариуме. Всевозможная ветчина и колбасы - всех форм, десятки названий. Оранжевые апельсины, каждый в голову ребенка, высились пирамидами. Такой же величины яблоки казались искусственными, восковыми, художественным изделием умелых рук; ни единого пятнышка, ни единой вмятинки на их поверхности; они были так туго налиты соком, что, казалось, тронь слегка иглой их кожицу - и прозрачный ароматный сок брызнет струйкой, как их спринцовки.
Все выставленное в витринах, на прилавках, на полках и стеллажах до самого потолка было прекрасно и соблазнительно, все вызывало совершенно сумасшедший аппетит и слюни, но цены!.. От взгляда на этикетки с цифрами кружилась голова, пол уплывал из-под ног. Поэтому гастроном, полный всяческого великолепия, был постоянно пуст, горожане, облизываясь, могли только поглядеть на его изобилие, а пожилые люди - еще и вспомнить московский и петербургский магазины купца Елисеева былых времен. Покупателями были редкие счастливчики, располагавшие большими деньгами. Прекрасно одетый, в белоснежной сорочке с бабочкой негр принадлежал к таким счастливцам. Ему взвесили целую палку сморщенной, стало быть, сухой, выдержанной по всем правилам, упругой, как резина, копченой колбасы самого лучшего, самого дорогого сорта, какой только был, завернули в хрустящую, тонкую, полупрозрачную бумагу и еще перевязали голубой ленточкой. Потом он купил солидный, граммов в четыреста, брус голландского сыра в красной оболочке, целую гору яблок, апельсинов, мандаринов, большой белый батон с изюмом. В заключение негр долго, внимательно выбирал себе вино. Продавец говорил ему название, объяснял, где оно сделано: в Крыму, на Кавказе, в Самарканде. Негр, пересмотрев с дюжину бутылок, остановился на грузинском ⌠Цинандали■. Покупки ему сложили в большой бумажный пакет с эмблемой магазина, и он понес его в гостиницу, к себе в номер, очевидно - люкс, а то и суперлюкс, ужинать и пить чай, потому что день склонялся к концу, оранжевые солнечные лучи, пересекавшие проспект, стелились уже совсем плоско, наступало время отдыха, вечерних ужинов и чаепитий после длинного, утомительного трудового дня.
Я смотрел на негра во все глаза. Он был дьявольски элегантен. В нем чувствовалась высокая интеллигентность, необыкновенно утонченная воспитанность, свободные манеры состоятельного человека, не думающего при магазинных покупках, сколько ему придется заплатить. Все свои приобретения он делал легко, даже не взглядывая на цены, как будто то, что он покупал, совсем ничего не стоило, так, копейки. Он приветливо улыбался каждому продавцу, продавщице, благодарил их на ломаном, но понятном русском языке; зубы его, необычайной белизны, сверкали, как жемчуг. Кто он был - артист? Инженер? Может быть - специалист по проектированию и строительству мостов? Как раз в те месяцы поперек реки возле задымившего своими трубами ВОГРЭСа закладывали еще один широкий бетонный мост с трамвайным и автомобильным движением, чтобы надежней связать левую и правую части быстро растущего города.
Как ни необычно было видеть негра в глубинном, российском, далеком от всех внешних границ городе, все же его фигура была понятна, как-то его присутствие можно было объяснить. Но американец в редакции комсомольской газеты - он-то зачем сюда попал? По какой надобности?
10
Не один я явился в редакцию раньше времени: в зале уже находилось несколько человек. Следом за мной вошел кто-то еще. А там и остальные. Минут за двадцать до начала в зале был уже полный состав литкружка. Кто сидел за столом, кто на стульях вдоль стен, кто расхаживал; велось сразу несколько разговоров, голоса сплетались в непрерывный гул.
- ...Без жизненного опыта писателем не станешь, это аксиома, чего тут спорить?! Лесков сначала дельцом был, по городам странствовал, всю Россию вдоль и поперек изъездил, все в ней сверху донизу перевидал. Потому у него и типы такие яркие, что своими глазами видел. Иван Северьяныч, например, очарованный странник. Разве такого одной своей головой выдумать можно? Лесков таких Северьянычей десятки, наверное, в своих странствиях видел, чтоб из них потом своего героя слепить... Толстой офицером был, на Кавказе воевал, в Крыму. Сам из пушек стрелял. Мог бы он так севастопольские рассказы свои написать, если бы прежде все это на своей шкуре не испытал? ⌠Войну и мир■ возьми, батальные сцены. Невоенному человеку никогда их так не изобразить! Вспомни капитана Тушина. Можно такого из головы выдумать? Да ни в жисть! Такой Тушин, наверное, рядом с Толстым на каком-нибудь редуте был...
- А Золя? Эмиль Золя? Сугубо штатский человек, кабинетный. Письменный стол, кресло, полки с книгами - и так изо дня в день, всю его жизнь. Ни в одной войне сам лично не участвовал. А как написал ⌠Разгром■? Не работал шахтером, уголек своими руками не рубал - а про шахтеров у него целый роман, да какой! Классика мировой литературы! Личный опыт в писательстве - это еще полдела. Главное - творческую натуру иметь. Воображение. Особые мозги, интуицию. Увидеть, угадать, зримо себе представить, что и не видел никогда. И так рассказать, чтоб и другие там как бы сами побывали...
- ...Почему не этично? Очень даже этично! - выделялся резкий голос в другой группе разговаривающих, вернее, спорящих. - Тебе вмазали - и ты по сопатке! А иначе непротивленство какое-то: тебя лупцуют, а ты отвечать не моги, только щеки подставляй. Это что за правило такое, кто его утвердил, выдумал: поэт должен только стихи писать, а если его вдрызг разносят - так молчи в тряпочку и на критику не вякай. Стихи, дескать, сами за себя постоят. Если хорошие, так им никакая критика не страшна. А если она просто дурацкая, эта критика? Кто только в критику не лезет! В стихах, как говорится, ни уха, ни рыла, сам из себя строчки выдавить не может, зависть и злоба, что у других получается, спать по ночам не дают, прям-таки за горло хватают, душат - так берет дубину и давай крушить и размахивать. Вот так завистники и Пушкина гвоздили. А то бы он не написал: ⌠Картину раз выглядывал сапожник... Суди, мой друг, не выше сапога!■ Даже ему от бездарей, от сапожников, что в критики лезли, житья не было...
- Это ты хочешь авторскую нерпикасаемость учредить! - не дослушивая, перебивая говорящего, с не меньшей силой убежденности повышал свой голос другой спорщик. - Художественная литература - это не математика, не астрономия и тому подобное, что только специалистам понятно, она для всех, это дело открытое, книги пишутся для широкой массы, для всеобщего потребления. Значит, и судить о них могут все, каждый. Как по поводу хлеба. Любой телесной пищи. Литература такая же пища, только духовная. Для ума, для чувств, для морального воспитания. Имеет же право каждый потребитель хлеба, едок, выразить свое мнение о том, чем его питают, что для него в пекарне изготовили: вкусно, невкусно, недопек пекарь, перепек... А не нужно тебе мнение читателей, не желаешь его слышать - тогда и не печатай свои вирши. Писать - пиши, никто тебе запретить не может, рук тебе не отрубают, но складывай к себе в стол. Или на полку...
Извечные споры литераторов, начинающих творцов, любителей и знатоков литературы - или считающих себя таковыми... Сколько потом пришлось мне их слышать! Вплоть до сегодняшнего дня... Споры, которые никогда ни к чему не приходят, невозможно их привести, потому что каждый, в них участвующий, одновременно и прав и неправ, ошибается и заблуждается; правы все вместе, в складчину, общим хором, но никто этого не понимает, не видит, не чувствует, потому что каждый слышит только одного себя, убежден, что истиной владеет только он один, и не хочет услышать, задуматься над тем, что говорит другой или другие...
- Прошлый раз я обещал, что у нас в гостях будет писатель Федор Сергеевич Волохов. Ну вот - знакомьтесь!
Это был голос Тулинова. Невысокий, коренастый, браво подтянутый, без единой складочки на гимнастерке, он входил в зал. За ним следовал тот американец, что сидел в его кабинете.
Кружковцы обычно не раздевались, сидели в пальто. Не существовало вешалок, чтобы повесить столько верхней одежды. Те, кому было жарко, складывали свои пальто на свободные столы и стулья.
Гость тоже разделся, перебросил свое шикарное пальто с широкими плечами через спинку стула, сверху на пальто кинул пестрый шерстяной шарф во все цвета радуги, на шарф водрузил шляпу. Костюм на нем оказался тоже заграничный, не нашего покроя, темно-бордовый, в затейливую полоску; из нагрудного карманчика торчал уголок белого платка; рубашка - палевая, галстук - малиновый, с атласными переливами.
Заметив устремленные на него взгляды, Волохов сказал:
- Я вижу, вы думаете, что я прямо с Бродвея. Нет, на Бродвее я никогда не был и вряд ли когда попаду. Я агроном, окончил воронежский сельхозинститут - и сразу же прямым ходом в Сибирь, составлять почвенные карты. Места там изумительные, просторы немерянные, полным-полно всяких чудес. Одно из чудес такое было: зарплату экспедиционникам не рублями бумажными платили, а золотым песком. Не было почему-то бумажек. Зато кругом прииски, паровые драги пыхтят, намывают золото. Приезжает в отряд кассир выдавать зарплату, расписываешься - и тебе с аптечных весов несколько крупинок. По государственному курсу. Появились в местном банке нормальные бумажные деньги - можешь прийти, обменять на бумажки. Но я не обменивал, все время в поле, с рабочими, до районного центра, до банка далеко, питался из общего котла, что повариха сочинит - то и ладно, на курево, по местному способу, листья и траву сушили. Так что денег на себя мне и не требовалось. Крупинки копились, копились - и накопился полный наперсток. А тут как раз и экспедиции конец. Задание выполнено, можно в свои края возвращаться. Еду. Вид у меня - ну, точно бродяга с Сахалина: бородища на полгруди, копна волос на голове, - нарочно не стригусь, не бреюсь, чтоб родичей посильней удивить. В Свердловске делаю остановку. Там ⌠Торгсин■ знаменитый, вся Сибирь о нем говорит. Предъявляю в ⌠Торсине■ свой наперсток, от силы час, полтора - и вот я обут, одет с головы до ног, как и не снилось. И еще куча всякого мелкого добра: носки, подтяжки, носовых платков дюжина... И даже еще от моего наперстка остаток - сколько-то десятых грамма. На что их истратить? А вот на что: покупки же надо обмыть! Чем-нибудь крепеньким. Виски, например. Спрашиваю: виски у вас имеется?
- По-русски спрашиваете? - кружковцы слушали Волохова заворожено.
- Естественно. Я ведь других языков не знаю. Учил в школе немецкий, но ведь как у нас в школах иностранные языки учат... Да торгсинские продавцы все по-русски прекрасно говорят. Специально подобранные, вид у всех сугубо интеллигентный, такие все вылощенные, лысоватые, у всех на пальцах кольца, перстни. Ногти наманикюренные, лаком блестят. Битте! - отвечают. - Вы какую марку предпочитаете?
Какую я марку предпочитаю! Я и не пил виски никогда, вкуса даже не знаю. Читал только про виски в книгах.
- А какие марки у вас есть?
Как посыпали они названиями - и такое, и такое... Под конец слышу: ⌠Белая лошадь■. Я чуть ушами не захлопал: уж не ослышался ли? Чтоб у алкогольного напитка - да такое название... Но нельзя ведь себя дураком показывать. Говорю: стоп! Вот-вот, именно это:■Белая лошадь■. Это мое любимое виски. Просто обожаю!
- Что еще прикажете?
- А что, капитала моего еще хватает?
- Да, - говорит, - еще немного остается.
- На бутылку рома хватит?
- Вполне, - говорят.
- Тогда, - говорю, - рому, пожалуйста.
А что такое ром - я тоже не знаю. Помню только песенку из кинофильма ⌠Остров сокровищ■: ⌠И-хо-хо - и бутылка рому!■
- Какого именно? Есть английский флотский для торговых моряков, есть тоже английский флотский, но для военных моряков, есть ямайский, только его разводить требуется, крепость - семьдесят градусов, неразведенный - рот обжигает. Есть белый, тропический, из тростникового сахара. Есть... - и еще чуть не десяток названий.
Я вид делаю - будто я большой знаток рома, мысленно выбираю.
- Английский флотский, - говорю, - для военных моряков. А вообще-то моя мечта - бочковый ром отведать. Настоящий флотский ром для моряков - он ведь только бочковый, а бочки в самой глубине трюма хранили, в прохладной температуре.
- О, - говорят, - вы опоздали. Чтобы отведать бочкового рома - для этого вам надо было родиться лет двести с лишним назад. При английской королеве Елизавете и вашем Петре Первом. Теперь весь ром только в бутылках. Что-нибудь еще желаете? Или остаток вашей суммы вам вернуть? Магазинными бонами, иностранной валютой, какой именно?
- Неужели еще что-то остается?
- Совсем, совсем немного, но остается.
- И что же я на этот остаток могу получить?
- Ну, например, пару бутылок вермута.
- Идет, - говорю, - давайте вермут.
Продавец, ну, профессор просто, примерно с такой внешностью у нас в СХИ агрохимию читал, ставит передо мной на прилавок две бутылки с красивейшими этикетками, и говорит:
- Вот теперь у вас нуль!
Бутылки все здоровущие, литровые. Смотрю я на них и думаю: мать честная, как же я их понесу?
Но в ⌠Торгсине■ и такие случаи предусмотрены. Торговец из-под прилавка картонную коробку достает, поставил в нее бутылки, переложил стружками - чтоб не болтались, не звенели.